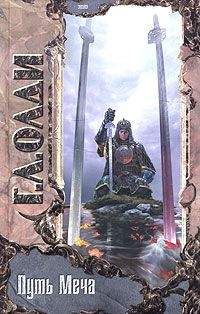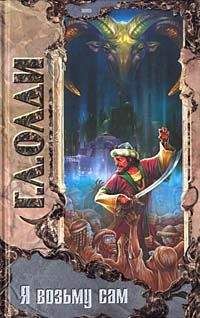Холмы кишели людьми и лошадьми, метались юркие гонцы, и с каждым мгновением правота Фаризы становилась все более очевидной. Я понял, что судьба, расщедрившись, дарит Мне-Чэну давно припасенный подарок.
Поединок.
Поединок Асмохат-та и Джамухи Восьмирукого; поединок Чинкуэды, Змеи Шэн, и Мэйланьского Единорога.
Решайся, Пресветлый Меч!
Если мы при всех вызовем их на бой — мерило воинской доблести — они не смогут отказаться. На этом держится их власть. И публично потерять лицо они не осмелятся…
Так почему Я-Чэн медлю? Почему не выхожу за круг повозок и не бросаю вызов? Почему?!
Потому что я знаю, чем это закончится. Я видел это. Я не хочу убивать. Не хочу убивать! Не хочу!.. И поэтому медлю, оттягиваю, как могу, тот миг, после которого уже не будет пути назад — и мои соратники с недоумением косятся в мою сторону. «Иди же! — говорят их глаза и клинки. — Иди и убей! Ты же можешь! Разруби одним ударом безумный узел этого утра! Победителей не судят! Убей!..»
И пока я медлю, строй тургаудов опять смыкается, взлохмаченная грива союзников и подданных Джамухи редеет, оттягиваясь назад, за пределы видимости… но делает это очень медленно и неохотно. Ну да, с одной стороны — гурхан и его приказ, а с другой — даже гурхан не должен бы запрещать приходить сюда, дабы поклониться… Конечно, не должен — но очевидцы очень мешают горячему Джамухе, и он тоже понимает, что победителей не судят!..
Еще бы он не понимал — ведь это одна из главных заповедей истины Батин!
Время, время! Оно уходит, но еще не ушло совсем — время бросить вызов, время убить — и время даровать жизнь многим, поверившим мне; время открыть дорогу великому будущему…
Ах, как красиво все это звучит!
Оно уходит, наше время, уходит, не спросясь, вместе с удаляющимися всадниками… оно уже почти вышло, наше время, но именно «почти» — потому что всадники перестают удаляться, они останавливаются, и вместе с ними останавливается время, оно зависает на невидимой нити, нить эта все растягивается и растягивается, грозя лопнуть… а потом нить резко сокращается, и всадники поворачивают обратно, к нам, и время снова начинает нестись вскачь…
Но, кажется, тоже в обратную сторону.
2
Потому что Я-Чэн слышу топот, но по непонятным причинам он звучит позади меня — приближающийся топот конских копыт, чьи-то радостные крики, бряцание сбруи…
Чэн-Я оборачиваюсь — и вижу, как от южных холмов к нам во весь опор несутся четверо конных, а Асахиро с Фальгримом и Кобланом уже растаскивают сдвинутые повозки, расчищая им дорогу.
Между тем Чэн-Я узнаю приближающихся всадников. Это молодой Кулай-нойон, а за ним — Тохтар-кулу с двумя ориджитами. А я еще радовался, что они не вернулись — дескать, глядишь, живы останутся!
А они успели… успели в гости к смерти!
— Клянусь Нюрингой! — бормочет несуеверный Обломок, и я ошалело вижу, как южные холмы, словно боясь отстать от своих собратьев, тоже прорастают гривой. Конных шулмусов если и меньше, чем союзников Джамухи, то ненамного, и мне просто не хватает воображения, что бы предположить — кто они, откуда, и кого будут убивать в случае чего!?
…Кулай спрыгивает с лошади и почтительно припадает на одно колено, приветствуя Асмохат-та, а его редкий для Шулмы прямой меч склоняет передо мной рукоять.
— Кто там за вами? — спрашиваю Я-Чэн. — Погоня?!
Прямой меч звенит радостно-возбужденно и неразборчиво, как все Дикие Лезвия в преддверии свалки, так что я полностью перехожу на восприятие Чэна, слушая Кулая.
— Это восточные хариманы, о Асмохат-та, и лаахоры, и ызджуты, и белобаранные бехтары, и…
— Все? — пытается прервать его Чэн. — А…
— Нет, не все! Еще племена предгорий — гурхэзы и джавнаки, но они отстали…
— Кто это? — ревет ничего не понявший Чэн. — Кто это, Кулай?!
— Это вольные племена, о Асмохат-та, отказавшиеся ломать прут верности перед Восьмируким! Они пришли, поддавшись моим уговорам, чтобы увидеть Тебя — и увидели собаку-гурхана, готовящегося напасть на священный водоем! Гнев раздул их печень, и нойоны вольных племен поносят Джамуху-костогрыза и собираются отстаивать святыню! Тем более, что не все люди Восьмирукого пойдут за святотатцем…
Что Я-Чэн мог ему сказать? Поблагодарить? За то, что из-за его расторопности тысячи шулмусов лягут сегодня в здешнюю гостеприимную степь?! Ведь Кулай же хотел, как лучше! Он действительно хотел, как лучше!..
— О Пресветлый! — свистнул просиявший Кулаев меч, и на этот раз я понял его без труда. — Веди нас в бой!
— Когда все закончится, — бросил я Обломку, — и если мы будем еще живы, награди этот достойный меч именем! Таким, какое он заслужил!
Обломок что-то невнятно буркнул в ответ, и я понял, что имя мечу достанется еще то…
…Вольные племена спешили взять водоем в полукольцо, отрезав его от туменов Джамухи; делали они это умело и деловито, а Я-Чэн смотрел на них и понимал всю верность их расчета. Любое восстание против Восьмирукого было если не обречено, то весьма сомнительно — гурхан мог вызвать непокорного нойона в круг, и тот не имел права отказаться, если хотел сохранить лицо! А исход такого поединка был ясен заранее, без всяких шаманских предсказаний…
Воинская доблесть — единственный закон и ценность Шулмы!
Зато сейчас! Осквернение святыни! — и плевать вольнолюбивым нойонам на ложность или подлинность Асмохат-та с его Пресветлым Мечом! Ведь когда в опасности священный водоем — что должен делать всякий честный шулмус? Вот-вот, именно это… Тем более, что если тургауды Восьмирукого и послушаются приказа гурхана, то многие недавние сторонники Джамухи не пойдут сегодня вслед за ним — а, может, и в спину при случае ударят…
Шаманы, небось, потом спасибо скажут и любой грех замолят!
«Кстати, о шаманах, — подумал Чэн, — вон, кажется, и они… Двенадцать — нет, тринадцать человек в до боли знакомых халатах с побрякушками и со взглядом, который невозможно спутать ни с чьим другим… смирные лошаденки, спокойная осанка — и ни одного Дикого Лезвия!»
Да. Это были служители Ур-калахая Безликого.
Но вспыхнувшая было во мне надежда, что шаманам удастся предотвратить кровопролитие, быстро угасла. Потому что трое шаманов остались у водоема, а остальные равнодушно погнали лошадей вверх по склону. К тургаудам они даже не стали приближаться, а сразу повернули левее и правее — и растворились в гуще людей.
Что-то должно было произойти — сейчас или никогда.
И гурхан решил — сейчас.
Передний край тургаудского строя начал быстро выравниваться — куда быстрее, чем в прошлые разы — и я понял, что время вышло.
Совсем.
Сейчас конная лавина, визжа и размахивая Дикими Лезвиями, ринется вниз, и все возможные доводы и миролюбивые размышления исчезнут в звоне, грохоте и потоках крови.