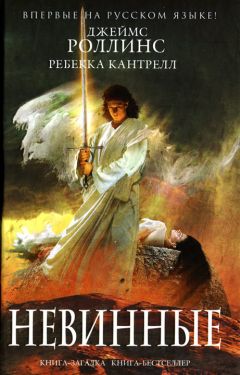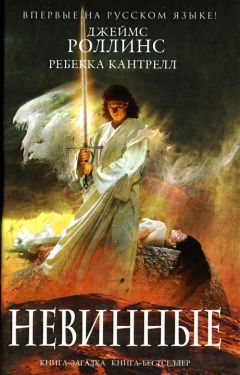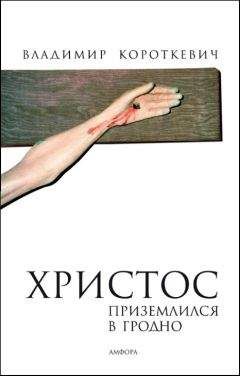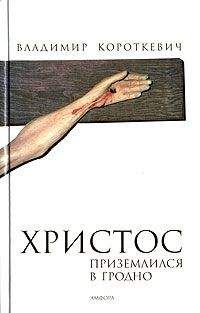Выпрямив спину, Элисабета шагнула вперед горделиво, как надлежит благородной даме, сложив руки перед собой, насторожив взор и слух.
Отступив от двери, она тотчас же признала колонны по обе стороны, массивный купол, возносящийся слева и даже шпиль на площади впереди. Египетский обелиск возвели на пьяцце в том же году, когда родилась ее дочь Анна.
Узрев все это, она успокоилась, уразумев, где находится.
Площадь Святого Петра.
В ней затеплилось сардоническое веселье.
Рун скрывал ее под градом Священным.
Она дошла до края пьяццы. На площади была изображена сцена Рождества Христова в натуральную величину, освещенная чересчур уж ярко, резким и безжалостным сиянием сверхприродного пламени. Свет ранил взор Элисабеты, и она чуралась его, держась у колоннады, обрамляющей площадь.
Зато эта сцена хотя бы подсказала, в каком месяце, если не в году, она пробудилась.
Декабрь, канун Рождества.
Мимо прошла чета.
Чувствуя себя не в своей тарелке, Элисабета скользнула за мраморную колонну. Женщина, как и мужчина, была одета в портки. Ее короткие волосы ниспадали лишь до плеч, а спутник, беседуя с ней, держал ее за руку.
Таких высоких женщин Элисабета еще не видала.
Скрывшись за колонной, она разглядывала другие фигуры, движущиеся по площади. Все ярко разряжены, укутаны в толстые кафтаны, пошитые очень изящно. Из одной из соседних улиц выехала странная повозка, озаряя себе путь лучами неземного света, не запряженная никакими животными.
Дрожа, Элисабета прислонилась к колонне. Этот новый мир грозил ошеломить ее, обратить в камень. Понурив голову, она заставила себя дышать. Надо отгородиться от всего этого, найти себе одну крохотную задачу… и эту задачу осуществить.
В ноздри пахнуло вином. Она потрогала свое сырое одеяние. Так не пойдет. Снова оглядела площадь, рассматривая женщин в столь диковинных нарядах. Чтобы улизнуть отсюда, нужно стать волком в овечьей шкуре, ибо если они догадаются, кто она такая, погибель неминуема.
Сколько бы лет ни прошло, эта истина останется неизменной.
Элисабета изо всех сил сжала кулаки, впившись ногтями в ладони. Она не хотела покидать знакомое окружение, чувствуя, что за пределами площади ее ждет нечто куда более чуждое, нежели в ее рубежах.
Но идти хочешь не хочешь надо.
Графине не пристало чуждаться своего долга.
А ее долг — выжить.
Чуя, что до рассвета еще долгие часы, она опустилась в тень колоннады. И сидела там не дыша, не шевелясь, недвижная, как статуя, прислушиваясь к хаотическим биениям человеческих сердец, к словам многих наречий, к то и дело раздающемуся смеху.
Эти люди так не похожи на мужчин и женщин ее времени.
Выше, громче, сильнее и упитаннее.
Больше всего ее поражали женщины, одетые в мужские одежды — штаны и рубашки. Они расхаживали без страха. Резко разговаривали с мужчинами, не опасаясь взбучки, и вообще вели себя, будто ровня, вовсе не взвешивая каждый жест и слово, как приходилось ей в свое время, а непринужденно, словно это в порядке вещей и принято повсеместно.
Многообещающая эпоха.
Беззаботно подошла молодая женщина, ведя малое дитя. Женщина куталась в бордовое шерстяное пальто, на ногах же у нее были сапожки для верховой езды, хотя, судя по запаху, они даже близко от лошади не ступали ни разу.
Женщина, мелкая для этого времени, ростом была примерно с саму Элисабету.
Дитя выронило белый мячик с красной звездой на нем, и тот откатился в тень, остановившись на расстоянии ладони от разбитых туфелек Элисабеты. От мячика пахло так же, как от подметок туфель попика. Идти за игрушкой дитя отказывалось, будто учуяв татя, затаившегося во мраке.
Мать уговаривала девочку на диковинно звучащем итальянском, махая рукой в сторону леса колонн. Но малышка упорно трясла головой.
Элисабета провела кончиком языка по своим острым зубам, страстно желая, чтобы мать сама отправилась за цацкой. Она уж сумеет отобрать у женщины жизнь, похитить ее скарб и скрыться, прежде чем осиротевшее дитя позовет на помощь.
Таясь во мраке, она наслаждалась напуганным трепыханием детского сердечка, слушая, как интонации матери становятся все более раздраженными.
Она выждала подходящий момент в этом странном времени.
И совершила прыжок.
Элисабета со вздохом опустила мячик на стол, утратив интерес к своим трофеям.
Встав, перешла к обширным гардеробам спальни, набитым шелками, бархатом, мехами — сплошь похищенными у жертв за эти многие недели. Каждую ночь она прихорашивалась перед серебряными зеркалами, лишенными малейшего изъяна, выбирая себе новый наряд. Некоторые из одежд казались почти знакомыми, другие столь же нелепыми, как платье менестреля.
Нынче вечером она выбрала мягкие голубые штаны, шелковую рубашку под цвет своих серебряных глаз и пару тонких кожаных ботинок. Провела гребешком по густым волосам цвета воронова крыла. Подрезала их до плеч на тот же манер, что у женщины, которую убила под мостом.
Теперь она выглядит совсем иным человеком. Что сказали бы Анна, Екатерина и Павел, узри они ее сейчас? Родные дети не признали бы ее.
И все же она напомнила себе: «Я графиня Элисабета из Эчеда».
И тут же поглядела на себя с прищуром.
Нет.
— Элизабет… — прошептала она отражению, напоминая себе, что настали новые времена, и чтобы выжить в них, она должна следовать их обычаям. Так что она примет это более современное имя и будет носить его, как носит новую прическу и одежду. Вот кем она станет. Она сыграла уже множество ролей с той поры, как была обручена с Ференцем в возрасте одиннадцати лет, — порывистой отроковицы, одинокой жены, школяра языков, искусной целительницы, любящей матери, — ролей много, и не сочтешь. И это всего лишь очередная из них.
Элисабета чуть повернулась туда-сюда, оценивающим взглядом озирая свой новый облик в зеркале. С короткими волосами и в брюках она похожа на мужчину. Но она не мужчина и больше не завидует мужчинам за их силу и могущество.
Теперь они есть и у нее самой.
Подойдя к окнам балкона, она отдернула мягкие шторы. И взглянула на сияющее великолепие рукотворных огней нового Рима. Он все еще остается странным и пугающе чуждым, но она возобладала над ним довольно, чтобы питаться, отдыхать и учиться.