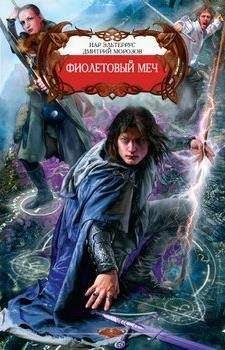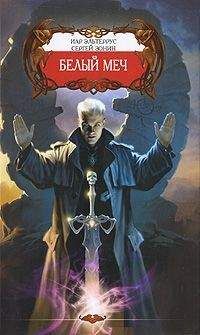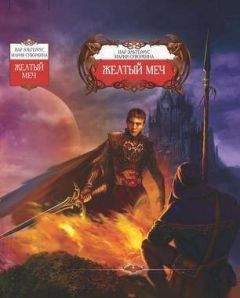Элан поел безвкусную кашу, что ему давали, ссылаясь на строгие запреты в отношении мяса, рыбы и других нормальных продуктов и завалился спать. Последней мыслью перед тем, как провалиться в беспамятство, было:
— Только правда может заставить так нервничать! Но если они действительно поклоняются триединому, они, напротив, должны воспевать мощь…
— Вставай! — Плечистый монах в просторной рясе, эффективно скрывающей его накачанные мышцы, бесцеремонно толкнул Элана в плечо, прервав его сон. — Пора поглядеть, что ты за воин.
— А кто вам сказал, что я воин? — Элан недовольно передёрнул плечами, однако вслед за первым в келью вошло ещё двое — столь же внушительного вида, и хранитель решил не обострять. Отношения между ним и послушниками триединого портились с каждым днём.
Арена была небольшой, но хорошо утоптанной. Было видно, что на ней много и подолгу тренировались. Свежий желтоватый песок, ровным слоем покрывающий землю, скорее всего, насыпался каждый раз перед очередной важной схваткой, что бы скрыть от высокопоставленных зрителей засохшие пятна крови. Трибун не было, однако Элан чувствовал множество изучающих глаз, с жадным вниманием наблюдающих за ним сквозь аккуратно прорубленные щели в стенах — узкие и длинные, они наверняка давали прекрасный обзор, не позволяя в то же время бойцам на арене увидеть зрителей.
— Держи, это твоё оружие! — Плечистый монах бросил перед Эланом простую деревянную палку, окованную железом, и, гаденько усмехнувшись, крутанул в одной руке сверкающий двуручник, который он припас для себя. — Мне сказали, что бы я тебя не калечил, но, знаешь, бой — дело такое… Ничего обещать не могу. Так что извини. Заранее.
Заржав, монах направился в свой угол, а Элан, закусив губу, поднял брошенную ему палку и попытался взвесить её в руке. Выходило тяжело и неуклюже — те несколько раз, что он держал свой Меч, тот казался продолжением руки, а это… Хранитель вздохнул, продолжая изучать всученную ему деревяшку, когда услышал тонкий, чистый звон, зазвучавший сразу отовсюду. Недоумевая, он поднял голову — и увидел несущегося на него монаха с высоко поднятым двуручником над головой.
Элан запаниковал. На земле он никогда не брал в руки оружия, а те несколько раз, когда он сражался кристальным пеплом — его вел Меч, рассказывая ему о таинствах танцев смерти… Он неуклюже кинулся с арены, слепо размахивая перед собой бокеном — так, кажется, называлась та игрушка, которую ему вручили, но тут огромной силы удар развернул его, едва не заставив упасть на песок — и хранитель увидел перед собой ухмыляющуюся рожу охранника.
— Дерись! Иначе… — Он выразительно провёл рукой по горлу и подтолкнул Элана в сторону ристалища.
Огромный меч легко описывал восьмёрки и более сложные фигуры, постепенно превращаясь в огромную, слегка размытую ленту, больше всего похожую на сытую змею, забавляющуюся с очередной жертвой. Стальные кольца от сжимались, то расходились, нещадно болели руки, сотрясаемые в неумелых попытках парировать мощные удары двуручника. Его жалкий бокен мечник легко мог бы перерубить одним ударом — однако по какой-то непонятной причине не делал этого, умудряясь просто снять стальную стружку плоской стороной огромного меча.
В какой-то миг Элан почувствовал, что больше не может. Голова стала пустой и звонкой, словно разум, изнемогший в отчаянных попытках найти выход, сдался и отошёл в сторону. Руки сами, на каких-то непонятных рефлексах повели бокен в сторону — смешно и нелепо, словно подставляясь под удар — но монах споткнулся на середине тщательно продуманной связки, четырхнулся и с досадой уставился на противника.
Парнишка попался тщедушный, такого можно перешибить одним пальцем. Сколько таких он повидал, с горящими глазами и крестьянскими железками бросающихся прямо под его меч… Опыта никакого, сил и ловкости — тоже. В глазах — решимость отчаяния и дерзость юности, что заставляет сопротивляться до последнего вздоха, но мало чем может помочь в реальной схватке. Обычно он с такими не церемонился, разрубая первым же ударом, однако тут был особый случай — велено было не убивать, но сломать, заставить ползать на коленях, вымаливая пощаду. Бывало и такое — ползали, как же. И не на коленях, а на обрубках ног, пуская кровавые пузыри и жалобно уставясь пустыми глазницами… Всякое бывало. И этот никуда не денется. Не было ещё таких юнцов, которые могли бы сопротивляться замыслам Церкви и опытного воителя… Вот только пацан об этом, похоже, не знал. Раз за разом он поднимался, держа обеими руками неуклюжую, смешную палку — и упрямо шёл на мечника, вызывая в нём уважение…. Подобное испытывает волкодав перед котёнком, бесстрашно бросающимся на него — перед тем, как прихлопнуть.
— Ладно, пора кончать. Сейчас подсеку ноги, пусть почувствует, как немеет тело, как кровь заливает чистый песок арены. На обратном ходе сниму с лица клок кожи побольше — и завоет щеночек, никуда не денется…
Монах шагнул поближе, просчитывая комбинации, однако тут парнишка поднял голову — глаза его были пустые и плескалась в них, ещё недавно тёмных, фиолетовое пламя. Тщательно продуманный удар пропал втуне — нелепая палка, выставленная под совершенно неправильным, глупым углом умудрилась не только сорвать тщательно отлаженные, заслуживающие восхищения финальные задумки поединка, но и расцарапала ногу — смешно, нелепо и как нельзя некстати.
Воин рассвирепел и кинулся вперёд, вращая двуручником. Нельзя убивать? Ладно, не будем. Покалечим слегка, пусть поймёт, что значит — вставать на пути у мастера своего дела. И портить его план блеснуть умением перед высшим духовенством — а именно оно сейчас наблюдало за происходящим. Однако странный юнец ничего понимать не желал. Он всё так же падал, уворачивался, совершал глупые, смешные движения, однако отработанные, верные, никогда не подводящие приёмы пропадали даром, а окованная дрянным железом палка раз за разом чувствительно тыкалась в рёбра, разрывая одежду, кожу, заставляя почувствовать боль собственным телом.
Монах разъярился. Никто не смеет нелепыми вывертами позорить искусство боя! Да ещё как! Шатается, падает, словно пьяный… Не бой, а насмешка над его мастерством! Он начал работать уже на поражение, не думая о последствиях. Накажут? Плевать! Слишком ценен опытный мечник, что бы бояться за свою жизнь — а остальное стерпим! Но этого нахала поставим на место…
Элан недоумевал. Разум его бастовал в попытках найти смысл в происходящем, однако благоразумно не вмешивался, сознание словно парило в стороне от тела, отрешённо наблюдая за происходящим — а странный, нелепый танец продолжался. Весёлый и опасный хмель туманил голову, руки вдруг стали лёгкими, почти невесомыми — а ноги наоборот, погрузнели, заставляя спотыкаться и качаться из стороны в сторону, а то и вовсе падать навзничь, что неминуемо должно, просто обязано было по всем законам логики привести к поражению — это ясно написано было на растерянном и озверевшем одновременно лице противника Элана. Его меч, ещё недавно такой лёгкий и вёрткий, падал тяжело и сильно, как топор палача — щадить его похоже, уже никто не будет — но при этом он ничего не мог сделать! Непонятно почему у опытного и сильного воина не получалось справиться с неуклюжим юнцом, шатающимся, словно пьяный. Элан с удивлением наблюдал, как его руки взмахнули бокеном, слово пытаясь что-то показать невидимым зрителям — и совершенно случайно на его пути оказался меч противника. Взвизгнув, тот в очередной раз отлетел куда-то в сторону — а неуклюжая, вся в зазубринах палка прошлась по лицу соперника, раздирая кожу и заливая кровью лицо. Монах взревел раненым быком и кинулся вперёд, высоко подняв двуручник над головой. Хранитель отбросил бокен в сторону, пытаясь убежать — однако руки опять подвели его, и тот полетел вперёд, прямо под ноги рассвирепевшему воину. Монах споткнулся — эта проклятая деревяшка запуталась у его в ногах, и упал лицом вниз… Элан попытался поддержать противника, шагнул вперёд — но опять сделал это словно пьяный. Меч противника зарылся в песок за его головой, а его собственные руки, вместо того, чтобы смягчить удар, неловко повернули голову монаха — раздался негромкий хруст и тот затих уже навсегда.