— Вперед, — тихо повторил Бронштейн, глядя, как громадные крылья перекрывают луну. Красный террор уходил в небо.
В пятидесяти ярдах от него Ленин повернулся к Кобе.
— Позволь и своим людям выполнить необходимое, — сказал он.
Коба рассмеялся в ответ и махнул рукой.
Бронштейн увидел, как устремились прочь люди Кобы, и со всей определенностью понял: Россия пропала. Выпустить драконов было ошибкой. Выпустить людей Кобы — катастрофой.
Борух был прав от начала и до конца.
«Пройдут годы, прежде чем мы освободимся от этих ужасов-близнецов: один на земле, другой с неба. Я просто хотел все сделать как надо. Но похоже, не получилось».
Его начало знобить от холода.
«Согреться бы, — подумал он вдруг. Эта мысль вовсе не подразумевала ни натопленной печки, ни горячего чая, ни шнапса. — Хочу туда, где пальмы. Тихая музыка. Улыбчивые женщины. Хочу прожить долгую, веселую и счастливую жизнь. С любимой женой».
Он подумал о Греции. О Южной Италии. О Мексике…
К этому времени шум драконьих крыльев стал шепотом, еле различимым вдали. Затихли и крики людей.
В предрассветной черноте безумный монах сумел пошевелить левым указательным пальцем. Ноготь царапнул по льду, и еле слышный звук был громче победных фанфар.
Он пролежал без движения полных три дня.
На второй день в него взялся кидать камешками крестьянский мальчишка, любопытствовавший, не умер ли пьяница, упавший на лед. Сперва монах удивился, отчего мальчишка не спустится на лед и не обшарит его тело в поисках чего ценного. Потом до него дошло.
Лед начал таять.
Дни сделались теплей, и лед стал подтаивать. Скоро могучая Нева разорвет оковы зимы и свободно потечет к Балтийскому морю. Ледяная вода уже проникла в его нарядные сапоги и вымочила черные бархатные штаны. Она плескалась в левом ухе, прижатом ко льду. Ему казалось — он чувствовал, как она просачивалась сквозь кожу, чтобы оледенить самые кости.
Вместе с водой и холодом подкрался ужас. Он понял: убийцам не будет нужды его приканчивать. За них все сделает река. Она утопит его, как другая река утопила сестру. Или причинит ему лихорадку, от которой он истает, как истаял брат. Он уже теперь трясся бы либо от холода, либо от жара — если бы мог шевельнуться.
Настала ночь, и отец Григорий в самый первый раз ощутил страх, присущий смертным, для которых он совершал богослужения. Он почувствовал себя Иисусом на кресте, и его твердокаменная вера поколебалась.
«Почему Ты оставил меня?..»
Ночь не ответила. Только холодная вода еще выше залила его сапоги.
Но потом, ближе к рассвету, он сумел пошевелить пальцем.
И подумал: «Если шевельнулся палец, значит, сможет двигаться и все остальное».
Воплощая эту мысль в действие, очень скоро он пошевелил указательным пальцем на правой руке. Так, как если бы на теле совсем не было ран. Он стукнул им по льду раз, другой, третий. Когда солнце поднялось над горизонтом, надежда возродилась и возликовал дух. Сделав страшное усилие, монах согнулся в поясе и сумел сесть. Как же все болело! Как холодно ему было! Каждый вершок его тела невыносимо страдал.
Однако он был жив. И он мог двигаться!
Ко всему прочему, он чувствовал страшную усталость. Решив, что подниматься во весь рост пока еще рано, он повернулся к восходящему солнцу и стал ждать тепла.
— Когда я отогреюсь немножко, — сказал он, и голос был на удивление ясен и спокоен, притом что застывшие члены буквально скрипели, — я вылезу на берег и разберусь с Феликсом и остальными.
Когда солнце поднялось чуть выше и стало из красного золотым, он увидел, как его диск пересекла стая птиц. Сотни, многие сотни крупных птиц отбросили на лед длинные тени.
«Это еще что такое? — удивился он про себя. — Неужто белые цапли?»
Но какие цапли зимой в этих местах?
Да и птицы были слишком громадными. Это бросалось в глаза даже на большом расстоянии. И Распутин внезапно понял, что опоздал. Он пролежал на льду слишком долго. За это время подоспел Ленин — и обрушил на страну свой красный террор.
Расширенными от ужаса глазами он следил, как стая подлетала все ближе. Алые чешуи, кожистые крылья и дым, струившийся из ноздрей. Он негромко вскрикнул, точно кролик под ножом, и попытался подняться. Движение, которое недавно совершалось так свободно, стало теперь испытанием. Руки и ноги отчаянно жаловались и едва повиновались ему. Когда налетели драконы, он так и не успел выпрямиться во весь рост.
Головной дракон спикировал на него и небрежно отшвырнул ударом передней лапы. Распутина закружило по льду, треснули ребра. Он еще пытался ползти к берегу, сдирая ногти о лед, но слишком медленно. Наконец-то — да уж, слово «конец» тут было более чем уместно — его тело вернуло себе способность дрожать. Но не от холода, холода он больше не чувствовал, а от страха. Ужас разогревал его кровь и гнал ее быстрее по жилам.
Тень покрыла его, и, подняв голову, он встретил взгляд черных глаз дракона, зависшего над ним в воздухе. И прежде чем он успел что-либо сделать, к нему метнулись когтистые лапы. Один длинный коготь играючи прошил ему грудь, пригвоздив монаха ко льду. Казалось, дракон смеялся, раскрывая пасть, полную жутких зубов. Монах хотел закричать, но не хватило дыхания. С разорванными легкими он мог только беспомощно смотреть, как дракон замедляет биение крыл и усаживается рядом с ним на лед — легко и изящно, словно певчая птичка.
Вот только весил он не как канарейка, и лед под ним немедленно затрещал. На брюхо чудовища плеснула вода, дракон недовольно рявкнул и бешено забил крыльями, чтобы взлететь. Потом хлестнул огненной струей, оплавив лед кругом себя и под телом Распутина. Кое-как взлетев из воды, дракон отряхнулся, избавившись и от сырости, и от своей жертвы. Распутин свалился на лед, но ветер, поднятый крыльями дракона, был настолько силен, что отца Григория попросту сдуло за тающий край, в черную полынью.
«Мы продели веревку в ноздри Левиафана, — подумал он, когда волны уже смыкались над его головой. Сквозь поверхность он еще видел искаженные силуэты драконов, подобно чайкам кружившихся над полыньей. — Но он царствует над всеми сынами гордыни».
А потом он утонул. Как много лет назад утонула его сестренка Мария.
Я не стал будить Ниночку.
Все разваливалось. Пусть хоть поспит, пока еще можно.
Вскрыв старый письменный стол (ключ от ящика был давно потерян), я начал опустошать свою сокровищницу. Набил карманы золотыми монетами, взял свое истинное свидетельство о рождении, другие документы, несколько ниток драгоценных жемчужин, бриллианты моей матери, отцовские золотые часы на цепочке. Моя жена, которую я собирался оставить, пусть довольствуется своими собственными драгоценностями. Пригодятся, небось. Увы, царь навряд ли осыплет милостями меня и мою семью, когда выплывет история смерти безумного монаха. А ведь она выплывет. То, о чем не станут рассказывать господа, легко можно выколотить из их слуг. Так что оставлю-ка я Ниночку, и пусть ее красота купит ей не самую худшую участь.
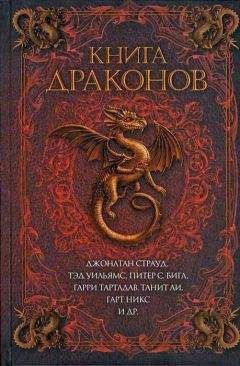



![Майн Вэльт - girls, girls, girls... [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/19776/19776.jpg)
