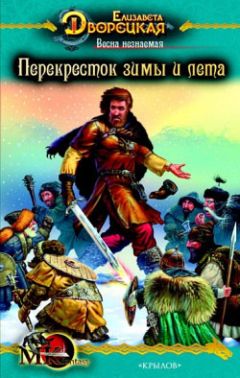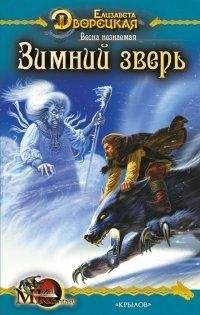Утром Дарована проснулась до рассвета и сразу же вспомнила о Громобое. Вместе с ней проснулось недоверчиво-радостное чувство, как будто ей наконец подарили то, о чем она долго и горячо мечтала. Вчерашнее казалось сном: она так долго мечтала о подобной встрече, столько раз рисовала ее в своем воображении, но при этом почти не верила в нее, как не слишком-то веришь в то, чего уж очень хочется. Теперь, когда она почти утратила надежду, когда почти смирилась с мыслью о гибели и даже на эту поездку к Огнеяру решилась только ради того, чтобы успокоить отца… Без предупреждения, без предчувствия, без ободряющих знаков гадания, мимоходом, почти случайно… Но не зря ее названой матерью была сама Макошь, богиня человеческих судеб, – Дарована знала, что ничего случайного на свете не случается. А в этом дремиче есть все, что нужно. Она хотела верить, что именно об этой встрече говорила ей Макошь тем сияющим и страшным весенним утром возле белого камня, и надежда осветила в ее глазах это хмурое зимнее утро, сделала милее даже эту неуютную горницу в чужом доме.
Не торопясь подниматься, Дарована лежала, прислушиваясь к шуму внизу. Челядинка заново затопила печку, погасшую за ночь, горница нагрелась, можно было вставать. Одевшись, Дарована села у окна; нянька чесала ей волосы, заплетала три косы, закручивала две из них в баранки на ушах – а Дарована в это время смотрела на двор, разглядывая сквозь кружочки сероватой, как легкий дымок, прозрачной слюды в потрескавшемся деревянном переплете фигуры коней, кметей во дворе. Вон воевода Берислав, в высокой бобровой шапке, в красном плаще, стоит посреди двора, уперев руки в бока… Вбежал в ворота отрок,[32] выкрикнул несколько неразличимых отсюда слов – Берислав махнул сложенной плетью, кмети побежали к дверям конюшен, воеводе ведут оседланного коня… Едут смотреть засеку. Или то, что от нее осталось. Дароване страстно хотелось посмотреть на это своими глазами, но она даже не думала о том, чтобы поехать с мужчинами: она была отлично воспитана и точно знала, что прилично глиногорской княжне, а что нет.
Надо ждать. Воевода скоро вернется, и Громобой непременно будет с ним. Сердце замирало при воспоминании о его взгляде – он смотрел на нее так, как будто она одна на свете. По коже пробегала сладкая дрожь, и Дарована невольно закрывала глаза, будто боялась, что нянька, мачеха или горничные девушки подсмотрят ее мысли. Она была смущена и даже стыдилась перед собой этих чувств, но на душе у нее было так светло, как не бывало уже давно, очень давно.
Все утро она сидела так, у окна, ни на кого не глядя и никого не слушая. Но когда внизу во дворе раздался шум приближающейся дружины, княжна вдруг сорвалась с места и со всех ног бросилась из горницы вниз, так что Любица и Метелька, молодая княгинина челядинка, только рты разинули ей вслед и замерли с веретенами в руках.
Дарована пробежала лестницу и просторные нижние сени, выскочила на крыльцо и сразу увидела его. Громобой входил в ворота в гуще воеводских кметей; все вокруг него были верхом, а он шел пешком, но не кмети заслонили его от глаз Дарованы, а он – их. Она увидела только его; он казался больше, ярче всех вокруг, словно солнышко… Солнца не было, но его рыжие кудрявые волосы бросались в глаза. Дарована вдруг сообразила, что они оба с ним рыжие, и сердце дрогнуло, как будто это случайное сходство создавало между ними какую-то связь. Это опять смутило ее и все же показалось приятным.
Громобой тоже сразу увидел ее, и его потянуло к ней, как на огонь в темноте. Сейчас, при свете дня, она казалась новой, другой и еще более прекрасной. Вся она была светлая, золотая, как Солнцева Дева, и от мягкого сияния ее светло-рыжих, как светлый непрозрачный мед, волос само крыльцо казалось позолоченным. Она стояла, положив обе руки на деревянные опоры, и Громобой видел ее до последней мелкой черточки, видел янтарные обручья с золотой узорной сеткой на запястьях, каждый завиток вышитого узора на подоле красновато-коричневой рубахи. Он смотрел на нее снизу вверх, и казалось, она освещает собою весь двор, как само солнце, сияющее с неба. Чувство восторга захватило его полностью и потянуло к крыльцу, как к престолу богини.
– Стой, куда ты, милая моя! А шубу-то! Застудишься! – Из сеней выскочила Любица, держа в объятиях шубу на рыжих куницах, покрытую красным сукном, и накинула ее на плечи Дароване. – Да поди в хоромы, успеешь, насмотришься!
Воевода Берислав тем временем проехал через двор, оставил коня и поднялся по ступенькам к Дароване, но она не замечала его, и он неловко, как в пустоту, поклонился, озадаченный ее невниманием.
– Все верно, кн… как сказано, золотая лебедь ты наша! – весело ответил он, сумев-таки поймать у себя на губах слово, которого произносить было нельзя. Дарована наконец опомнилась и кинула на воеводу короткий взгляд. – Как он сказал, – воевода кивнул на Громобоя. – Чистое место, как скатерть! – Воевода усмехнулся, повторяя слова Громобоя, которым вчера не поверил, сдернул с головы бобровую шапку и покаянно взмахнул ею в воздухе. – Где была засека – уголье лежит, зола. Перун молниями пожег, не иначе.
– Да… – безотчетно согласилась Дарована, снова глядя на Громобоя. Он стоял вплотную к крыльцу и не сводил с нее глаз. – Только ведь спит Перун…
– Он спит, а сила его по земле ходит, – негромко отозвался Громобой.
Кмети, торопясь с холода в гридницу, почтительно обходили девушку, а воевода Берислав все стоял с шапкой в руке, не решаясь уйти в дом, пока она тут. Громобой медленно поднялся на крыльцо.
– За такое дело надо тебя наградить, – тихо сказала она и попыталась улыбнуться, но от волнения улыбка вышла неловкая. Ее пробирала такая сильная дрожь, что говорить было трудно и собственный голос доносился как будто издалека, больше похожий на эхо. – Мой отец… Чего ты хочешь попроси – он все может тебе дать…
Она не должна была говорить, что ее отец – сам смолятический князь Скородум, но хотелось хоть как-то дать ему понять, что она высоко ценит уже сделанное им и верит в его будущее, которое превзойдет прошлое и настоящее.
Громобой обвел ее медленным взглядом, как будто еще раз спрашивал себя, не мерещится ли ему это чудо, и взял ее руку, которой она придерживала на плече тяжелую шубу. Дарована ахнула – его рука показалась ей, озябшей на крыльце, горячей как огонь. Громобой сообразил, что слишком своевольничает, но она все же не отняла руки. Ее рука совсем потерялась в его ладони, и сейчас, рядом с ней, он казался себе еще более здоровым и неуклюжим, чем всегда. Собственное невежество его смущало: весь облик Золотой Лебеди, от ее чистого белого лба до красного носочка сафьянового сапожка, все ее поведение, каждое сказанное слово, мягкий звук ее голоса, приветливого и вместе с тем полного гордым достоинством, – все это ясно говорило о том, какого высокого рода и непростого воспитания эта девушка. Громобой умел все это оценить и растерялся так, что даже слов не находил. Он готов умереть за нее хоть сейчас – это главное, что он хотел выразить, но его очаровывали и обезоруживали ее глаза: удивительные, невероятные, единственные на свете! Они были в точности одного цвета с волосами – темно-золотистые, каким бывает иногда непрозрачный светлый мед. Если бы от кого услышал – не поверил бы, что так бывает, но у нее было именно так. Белая, без единой веснушки, кожа была так нежна на вид, светлые пушистые брови были едва заметны, но черные длинные ресницы ярко очеркивали золото глаз. Вся она как из молока и меда – Солнцева Дева из тех стран, где текут молочные реки…