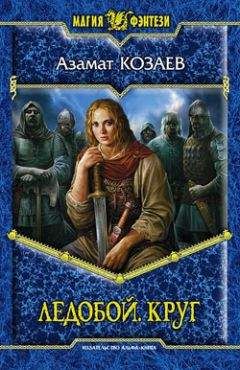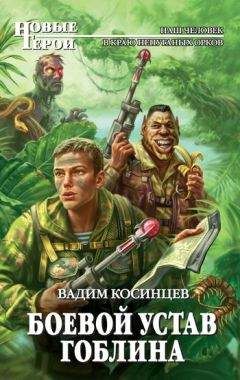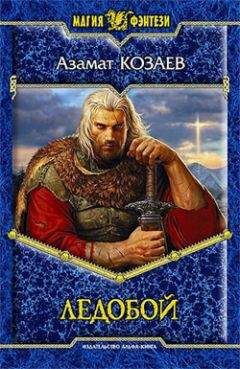– Плечи не оттягивают?
– Что?
Что-что… руки! Мысли озвучила, дура. Где же ему понять, о чем думала?
– Это я так, о своем.
Лапа тяжелая, а в волосах елозит невесомо. Потом брови пригладил, вправо-влево, одним пальцем.
– А кого добил тогда после побоища с лихими? Ускакал ведь.
– Доносчика. Должен был к дележу прибежать.
– Ну?
– Прибежал. Сорока, тутошний.
Не стала вызнавать дальше. Лежала и смотрела на багряное солнце, что уходило на покой, и едва маковка нырнула в дальнокрай, Сивый поднял:
– Вставай. Застудишься. Пора назад.
Ну да, конечно… еще бы Сивый не понял, отчего ночью едва сарай не подожгла. Сама взмокла, поднеси к губам лучину – вспыхнет. Только и шепнул, усмехнувшись:
– Ты лучше Ягоды.
– Честно?
– Честно.
Тут же рухнула на ложе, тяжело дыша. Прижалась задом к Безроду, утянула его руку себе на живот и, счастливая, уснула…
Незадолго до памятной поляны у Срединника напряглась. Безрод все понял, подмигнул. Выше нос, красота!
Дорога как дорога, впереди – город, обозы ходят круглый год, только в то лето их было не так много. Или город невиданно разросся, или… что?
Не ожидала. Вот уж не ожидала. У памятника вою в красной рубахе столпотворение. Всякий мимохожий и мимоезжий не преминет остановиться, приложиться рукой к теплому камню. Рубаха все так же пламенеет, ни от дождей, ни от снега ничего ей не делается. Поодаль, на поляне, где сами стояли не одну седмицу, гомонят люди, разбили шатры и пологи. Должно быть, живут здесь. У памятника на дощатых лежаках, покрытых лапником, лежат несколько человек, три стороны заняты, четвертая открыта для подхода. Сивый нахмурился, бросил на Верну острый взгляд, медленно потащил скатку. Развернул. Бросил на плечи.
– Чего ждут? – спросила пахаря, что приложился к памятнику и возвращался к телеге.
– Нездешние?
– Нет.
– Чудо наше. Кто поставил изваяние, не знаю, а только силу имеет необыкновенную. Хворые излечиваются, особенно раненые.
– Не может быть!
– Может! Не просто так люди толкутся, со всей округи съезжаются. Вон и болезные лежат, кто порван, кто порублен, кто порезан. Ну в добрый путь.
Сел на телегу, дернул вожжи – и был таков.
– Вот тебе и обыкновенный валун, – растерянно прошептала.
Сивый помолчал, огляделся, смерил Верну колким взглядом. Только и бросил:
– Безвинная кровь слилась. Накрошил я преизрядно.
– Да! Я дура! Дура! – Кровь ударила в голову, стыдно стало. Могла бы из шкуры выпрыгнуть, так и сделала. – Это из-за меня…
– Цыть! – Безрод скорее молнии прянул вперед, накрыл гневливые уста ладонью и прижал Верну к боку Губчика. – Молчи, люди оборачиваются.
Несколько раз хлопнула глазами, глубоко вздохнула и лизнула его ладонь. Все, отпускай.
– А как я жив остался? – опустил руку.
– Тычок и Гарька не говорили?
– Не спрашивал.
Помялась, несколько раз начинала и обрывалась, душили неизлитые слезы.
– Я… я… ударила. И если бы ты не упал… Потерял сознание.
Молча ушли с поляны, Верна глаз не поднимала. Пребывала мрачна и угрюма, думала о чем-то своем и ночью удивила. Тихонько встала, якобы по делам, и была такова. Улизнула. Безрод спал чутко, будто одна половина дремала, а другая бодрствовала. Встал, когда простой отход по нужде стал исчезновением. Раздул угли, подбросил дров – остановились в лесу, – оглядел чащобу. Куда убежала? И ведь не заблудилась – именно убежала. Если прячется, ума хватит запутать следы. Четыре стороны света в ее распоряжении, беги не хочу. Но отчего-то Сивый не колебался. Взял на полночь. Верна спряталась в кустах, в сотне шагов – вышел точно, будто кто-то навел. Лежала и тихо-тихо рыдала. От слез развезло, ноги подогнулись, не могла стоять. Поднял на руки и унес обратно к стану. Вырывалась, кляла себя, винилась в безвинной крови, требовала бросить в лесу на поживу зверью.
– Оставь меня, дурак!.. Брось! Полтора десятка к пропасти подвела да скинула!.. Из-за меня их нет, из-за меня! Змея подколодная, нельзя мне с людьми жить, нельзя-а-а…
– Вовремя тебя придавило, – буркнул Сивый. – Который уже раз?
– Пусти, пусти-и-и-и…
У костра успокоилась, обняла себя за колени и до рассвета глядела на пламя. Изредка косилась на Безрода и гладила золотое обручье на правом запястье. Сивый присмотрелся – простой круг, без камней, без резьбы. Не скруглен, угловат, как четырехугольный брус, только сведен в кольцо. Чего же гладит, едва не улыбается? Присел поближе, взглянул на Верну. Отошла, оклемалась. Глаза красные, губы искусаны.
Навестили Потыка, благо вышло недалеко. Старик лучисто улыбнулся, обнял как родную, шепнул на ухо:
– Это он?
– Ага.
– Суро-о-ов. Не забалуешь.
– Отбаловалась уже.
– Давеча только вспоминали.
– А сарай отстроили?
– Три здоровенных лба со мной, четвертый наездами! Ясное дело, подняли!
За трапезой Верна приметила острый взгляд старика, брошенный на Сивого. Тот глаз не поднял от плошки с густым варевом, но усмехнулся, дескать, взгляд вижу, смотри, если охота.
– А Тишай?
– Угомонился, при лошадях состоит. Воевода не нарадуется, говорит, никогда такого справного лошадника не видел.
– А жилы?
– Какие жилы?
– Ну… Беловодицкий сад… жилы на заступ намотаешь…
– Намотал, – кивнул Потык, прошел в угол, из-под лавки достал яблоко, бросил Верне. Откусила. Сидели бы голуби под крышей, снялись от хруста. Кисло-сладкое, рот залило соком, на подбородок стекло – не ожидала.
– Ешь, глотай, – усмехнулся старик.
Кивнула, ем. Рот набила, щеки разнесло. День клонился к закату. Туда-сюда ходили Потыковичи: Цыть, Полено, Перевалок – дома подняли неподалеку, забегали снохи, внуки дедов дом перевернули с ног на голову. Посреди ребячьей возни молодая жена грызла яблоко, слушала старика и мычала.
– Иной ухарь в расписном поясе думает о себе всякое, а проглядишь до самых печенок на «раз-два». Твой даже веревкой не подпоясан, а гляжу на него и теряюсь. Ровно в туман смотришь. Ни зги не видать.
– Не видать, – согласилась.
– Справишься?
Молча пожала плечами. Как знать. Вон, вчера накатило. Думала, пережила, погребла… ан нет. Выплакала все на год вперед, глаза до сих пор красные. В груди тянет, хоть ножом рассеки и пусти тяжесть наружу. А глядишь на Безрода, и стихает боль. Умеет Сивый…
Были в Срединнике, видела Кречета. Каменотес, едва увидев, молча сгреб в охапку, чуть не раздавил. Покачал головой, дескать, не думал, что такое получится из придумки с изваянием. Давно хотел обнять, только не знал, доведется ли еще. Позвал остальных, и бородачи в кожаных передниках не отпускали до самых сумерек. Пока рассказывали чудеса про изваяние, Верна поймала взгляд Сивого. Тот молча глазами показал, дескать, слушай, дура. Слушала, и душу распускало. Безвинно ушли полтора десятка, полегчало сотням. Нет, тяжесть окончательно не ушла, но стало можно жить.