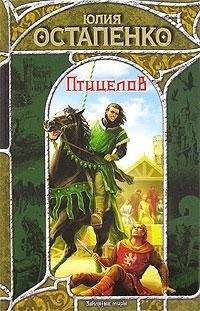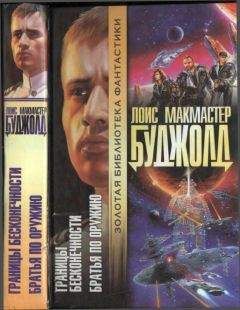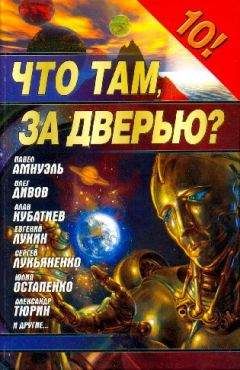Лукас умолк и обвёл трибуны взглядом. Он знал, что каждое его слово уже теперь передаётся за стены и до заката облетит весь город, а наутро выйдет за его пределы. Он улыбался.
— Жители Хандл-Тера! Я здесь для того, чтобы предупредить вас: когда вы услышите это, не верьте. Эти обвинения — гнусны и лживы. А те, против кого они направлены — невиновны и чисты перед вами и Богом. И это я ныне свидетельствую!
Над амфитеатром повисла тишина. Каждый мужчина, женщина и ребёнок смотрели на Лукаса, но он чувствовал на себе только один взгляд — тот, на который не собирался отвечать иначе, чем тем, что сделал.
Лукас склонился над чашей в центре Священного Круга, зачерпнул ладонями мутную воду, собранную с ледника, и поднял к лицу.
— А если это свидетельство — ложь, то, о Единый, возьми мою жизнь себе, — сказал он и выпил.
Вода оказалась не просто горькой — она была нестерпимой. От горечи свело дёсны, и Лукаса едва не вырвало. Он с трудом сумел подавить позыв, но ещё прежде, чем это ему удалось, у него стало темнеть в глазах, и кровь загудела в ушах, будто закипая в голове. Яд в самом деле действовал быстро. Одному богу известно, сколько противоядия выпила сегодня утром Ольвен, и не этим ли была вызвана её бледность. Но об этом Лукас подумать уже не успел.
Он почувствовал, что падает, и ощутил боль, когда тяжело ударился плечом о край каменной чаши, но эта боль казалась далёкой, как будто чужой. Тело стремительно немело, холод камня под одеревеневшей спиной почти не ощущался. Лукас ослеп и оглох, его внутренности драло на части — он чувствовал что-то похожее, когда разорвал себе лёгкое, и когда посмотрел в глаза Ив и увидел, что она всё поняла, она всё поняла, всё знает о нём, но продолжает любить его, как есть… Тогда он не смог этого вынести, и сейчас — тоже не мог. О Боже, взмолился Лукас, пожалуйста, не надо, я не смогу этого вынести. Я не смогу, не смогу, не смогу, что же это, я не смогу…
Он увидел своё тело сверху и со стороны — скрючившееся у подножия алтаря, увидел искажённое бешенством лицо толпы — да, одно лицо, это всё было одно и то же лицо, — увидел яростные солнечные блики на поверхности отравленной воды, в этот самый миг выжигавшей из него жизнь, или нет, уже выжегшей, это ведь мёртвое тело там, внизу, оно моё, мне так жаль его, Боже, так жаль, не надо, не надо, я не могу, это нестерпимо выносить!
Это и правда было нестерпимо, поэтому он отказался смотреть. Но у него уже не было глаз, чтобы их закрыть, не было головы, чтоб отвернуться, поэтому он видел, хотя и не смотрел. И ощутил громадное облегчение, когда внезапно откуда-то — кажется, изнутри него самого — во все стороны ударил свет.
– Для кого ты сделал это?
Он попытался обернуться, попытался ответить, но было только больно и страшно, о Боже, что же это так болит, если у меня уже не осталось тела?..
– Для кого ты сделал это?
Снова, опять снова то же самое, даже здесь, пожалуйста, не заставляй меня отвечать…
– Для кого ты сделал это?
Это был не голос, а свет, но свет превращался в вопрос — без слов, без звуков, без жалости, и в вопросе был только сам вопрос.
– ДЛЯ КОГО ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО?
— Не для тебя, — прошептал Лукас, хотя не было ни звуков, ни слов.
– ДЛЯ КОГО ты сделал это?
— И не для истинного короля, это уж точно.
– ДЛЯ КОГО?
Что за вопрос — не для кого, а зачем! И зачем только ты, то, что всю свою убогую жизнь притворялось Лукасом Джейдри, ввергло себя туда, где нельзя лгать, потому что ложь — это слова, а здесь нет слов, здесь лишь ответы…
Нет. Только один ответ. В этом свете есть только один вопрос и один ответ, и ничего больше, нет даже тебя.
— Я никогда ничего не делал для кого-то, кроме себя, Господи, — сказал Лукас. — Я не знаю, как ответить на твой вопрос.
И тогда он понял, что это не свет — это ладони. Две раскрытые руки — не маленькие и не огромные, потому что здесь не было размеров и расстояний. Просто две руки, слепленные из света внутри него. Смыкаясь, они должны были пресечь и тьму, и свет, но они сами были иногда тьмой, а иногда светом, и теперь они тянулись к нему. Если бы он ещё мог видеть, то закрыл бы глаза, и если бы мог помнить, то вспомнил бы лица и имена — но он знал только, что имён и лиц здесь нет, что они стали им, что они всегда были им, так же, как эти руки.
Ладони сомкнулись вокруг него. И за мгновение перед тем, как свет разорвал его и принял в себя, Лукас понял, что прощён.