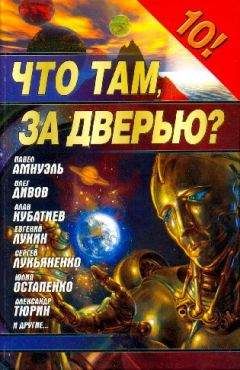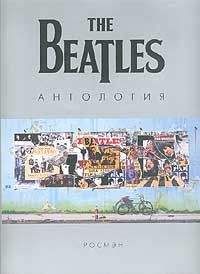Над подобным заповедником ядовито посмеялась Полина Копылова в неопубликованной повести “Прозрачные врата”. И она же впоследствии опубликовала повесть “Пленница тамплиера”, где новая, облагороженная версия заповедника оказывается вполне приемлемой для главной героини. Единственный роман той же Копыловой — “Летописи святых земель” — построен на столкновении двух разных версий Средневековья-2: южной — страстной, жестокой, несколько ярмарочной, замешенной на горячей крови и холодной стали, и северной — морозной, мечтательной, слегка эльфизированной, опирающейся на силу дружин высоких светловолосых меченосцев. Фрейд повсюду кажет рожки. Не роман, а набор дверей в трюмы массового подсознания, и романтическая стилизация служит поводом к тому, чтобы двери эти распахнуть… То же самое можно сказать и о копыловской повести “Virago”.
Средневековье — вроде запретного плода. Причем запрет установлен достаточно гибкий, лукавый, вроде наручников с кнопкой, размыкающей стальное объятие: хочешь, побудь пленником, а нет, так можешь освободиться в любой момент. Дело ведь не только в недостатке высокой эстетики в наши дни, не только в гнетущей мегаполисной смеси из пластика, неоновой рекламы и тонированных стекол. Дело в том, что наш век оскудел благородством. И умы наиболее образованных людей обращаются к самым красивым временам, отыскивая там и благородство, и высоту духа, и силу веры, и настоящее подвижничество. Современный умник вроде бы знает: откуда бы взяться подобным ценностям во времена грубости, грязи, вшей, отсутствия горячей воды и эффективной медицины, ужасающей жестокости нравов… А с другой стороны, глубоко внутри у многих миллионов людей сидит убеждение в том, что у Нового времени, в котором мы все и живем, труба пониже да дым пожиже по сравнению с каким-нибудь дученто. Даже при отсутствии горячей воды… Мало кто задумывается о том, что образ грязного и грубого феодализма — такой же дидактический миф, как и образ поэтического рыцарско-трубадурского века.
В наш прекрасный век все так деловиты,
Счеты и кредиты заворожили всех.
Черни и толпе дьявол душу застит…
Еще одним излюбленным “заповедником” наших авторов является переходная эпоха, конец XVI–XVIII века. Эпоха мушкетеров, шпаг, пудреных париков, маскарадных масок и крылатых плащей. Воссоздание реальности Новое время-2 идет по двум направлениям. Первое основывается на традиционном католическом мире, воспетом Дюма-отцом, второе опирается на Северное Возрождение и протестантскую Европу. Лучшим образцом первого, по нашему мнению, стоит признать цикл Марины и Сергея Дяченко “Скитальцы”, а в нем романы “Шрам” и “Преемник”. “Шрам” — типичный роман шпаги и плаща, с легко узнаваемым антуражем, идущим не только от Александра Дюма, но и (в большей мере) от “Сирано де Бержерака” Ростана. Второе направление представлено в трилогии Юрия Бурносова “Числа и знаки”. Перед нами словно оживают полотна Рубенса и Рембрандта. Черные камзолы со священническими стоечками, брабантские кружева воротников и манжет, короткие шпаги, “гере” и “грейфсрате”.
Романтизм первой половины девятнадцатого века и все его дальнейшие модификации последующих эпох представляли собой форму протеста против магистрального пути, по которому прошла европейская цивилизация. Шиллеровские страсти, энтузиазм Людвига Баварского, появление прерафаэлитов и “Мира искусства”, поэзия Н.С.Гумилева и эта романтическая ветвь отечественной фэнтези — явления одного ряда, хотя и разного масштаба. Собственно, протестный заряд, вне зависимости от того, до какой степени автор сознательно отталкивается от свинцовых мерзостей либеральной цивилизации, — наиболее ценное в данном направлении фэнтезийной литературы. Отсюда вывод; названная отрасль будет у нас бурно развиваться. Питательная среда для нее становится год от года все гуще и гуще.
Но чаще российскими фэнтезистами наших дней используются условные, слегка осредневековленные города лишь по той причине, что для массового читателя рыцари–арбалеты–таверны–шляпы с перьями привычны. Ведь основной поток англосаксонской фэнтези выполнен именно в этом ключе… С большей или меньшей долей остроумия фантасты выжимают из вообще-таверн, будто-замков, типа-королей, лесов-как-в-прошлом-году-на-полигонеи наподобие-трактировприключенческое ассорти. Больше всего подобного рода романы напоминают дописанные до требуемого объема ролевые “квэнты” или же либретто для компьютерных игрушек.
Наиболее удачные из них связаны с умением автора построить динамичный, лихо закрученный сюжет. В числе тех, кто считается “крепкими сюжетниками”, выделяются Виктор Ночкин (роман “Меняла”), Алексей Пехов (сиальская трилогия, роман “Под знаком Мантикоры”), Александр Золотько (роман “Игры богов”), Илья Новак (роман “Клинки сверкают ярко”), Лора Андронова (сборник “По велению Грома”) и, может быть, Юлия Остапенко (роман “Игры рядом”).
При этом Ночкин на голову возвышается над всеми остальными. Он и стилист лучший среди всех перечисленных фэнтезистов и умеет к тому же в добротную приключенческую вещь вложить серьезный философский слой. В данном случае проблему бытовой этической глухоты, ставшей столь обычным явлением для мегаполисной жизни наших дней.
А Пехов выигрывает у прочих как минимум по части здравомыслия: он, видимо, почитал справочники, ознакомился с литературой о фехтовании и тем самым сделал мир “Мантикоры” более ярким, более привлекательным для читателя. Можно было бы многое сказать относительно спорных моментов этики, которую Алексей Пехов предлагает читателям, но по части декораций приключенческого квеста он на голову выше прочих фэнтезистов-сюжетников.
В новаторски-экспериментальной книге Золотько трудно вычленить конкретное историческое время и географическое пространство. Боги и демоны здесь, так сказать, не имеют “национальности”. В них при желании можно угадать представителей и древнегреческого, и индийского, и иудейского, и германо-скандинавского пантеонов. Скорее всего это и входило в первозамысел автора, создавшего гиперпространство гипермифа. Ведь практически в каждой мифологии есть мотивы борьбы, соперничества между богами, сюжеты, связанные с восстанием бога-отступника и изгнанием его в преисподнюю, с последней и решающей битвой, за которой последует либо конец света, либо царство всеобщего счастья и справедливости. То же можно сказать и о воссоздании в “Играх богов” местного колорита. Налицо признаки смешения времен и языков. Здесь и архаика, и эллинизм, и раннее Средневековье.