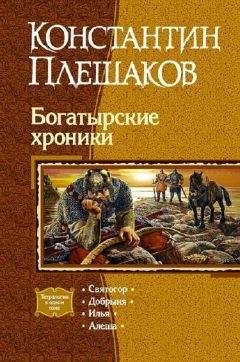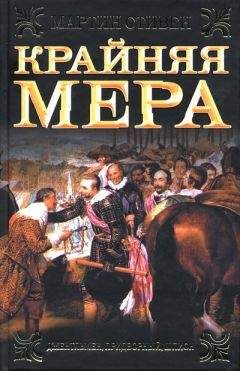Досада меня взяла. И надо ж было князьям остальным за море об эту пору уйти! Калеку в Новгород везти придется.
А Якун важничает, хитрит. Во двор меня повел — ни за косяк, ни за столб не заденет, ровно идет. Во дворе заставил служек в воздух монеты кидать — и что же, мечом в монеты попадает и рассекает надвое.
Не понравилось мне это. Когда храбрится увечный — значит, боится снисхождения смертельно и втайне здоровых всех ненавидит. Отступиться даже вовсе от Якуна я хотел. Но обещал же привести князю войско. За Якуном пойдут варяги, за мной — не пойдут. Правда, дальше-то глупость одна выйдет. По-хорошему, должны были б варяги в сражении нашему князю подчиниться, да никогда такого не бывало. В бою только от своего варяг приказ принимает. Ох, навоюет Якун-богатырь на нашу голову…
А Якун все понимает:
— Нет, — говорит, — сейчас на берегу никого. Все за море ушли. Я один только могу рать поднять. Но — понимай, оголится берег наш тогда, без защиты жены и дети останутся. Поэтому плата за поход особая будет.
И цену заламывает непомерную…
Долго с ним рядился. Как купчишка, торговался Якун окаянный. В дом уходил, слова разные говорил, камни даже немаленькие ногой в залив сбрасывал. Наконец сговорились о цене.
— Вот и хорошо. — Якун говорит и повязку, довольный, поправляет. — Ты где хочешь теперь жди — хоть у меня в тереме, хоть обратно в Бирку поезжай. А я через десять дней с дружиной подойду. Как увидишь парус с золотой полосой — мои корабли.
Уж и парус под слепоту свою приспособил, витязь тщеславный и мелочный. Спрашиваю его:
— Как бы мне с Сильным каким через тебя перемолвиться? Дело у меня одно есть.
— Княжеское? — Якун спрашивает жадно, чтоб с меня еще серебра слупить.
— Нет, — говорю, — никакое не княжеское, а для моей лично выгоды.
Что ж, посулил я Якуну от князя горы серебряные, можно мне и снисхождение сделать. Говорит Якун:
— Как мы есть с тобой теперь почти братья, сведу тебя с Сильным одним. Не сомневайся, о чем хочешь с ним говори. Я к нему сам за советом всякий раз плаваю.
Сомнение меня взяло. А Сильный тот — в тишине благословенной злом тихим не опоганился ли, не соблазнился? Можно ли ему верить? Ну да делать нечего, за десять дней никого я сам не сыщу.
Попрощался и отплыл с Богом. Своего провожатого мне Якун дал.
Сильный тот жил в двух днях пути. На развилке морской остановиться, к правому берегу причалить и в рощу подняться. Вся недолга. От рощи до воды — камень докинуть можно, и роща сама — с платок величиной, не укроешься в ней, и стоит изба у всех на виду. Не так на Руси Сильные селятся. Наши света не любят, чужих глаз и подавно. Никогда б не стал я у нас на открытом месте Сильного искать. Что ж, другая земля — другая Сила.
Завидел, однако, Сильный ладью нашу — на берег встречать вышел. Ворогом его зовут. Мужчина не старый, плечистый, и по повадке видно — воином был. Взгляд спокойный, с достоинством и без прищура всякого.
В избу свою не повел:
— Не от кого нам прятаться, а на солнце нам духи летние помогут. От ладьи твоей отойдем только: не терпят духи многолюдства.
За мыс отошли и там на зеленом откосе примостились. Странно мне на солнце о тайном-то разговаривать. На Борога покосился — не пустое ли дело? Да вроде не пустое.
И для начала с пустяка начал: мол, есть у князя Мстислава жемчужная серьга в ухе, сам конунг Рюрик, пращур его, из здешних холодных мест ее на Русь привез. Не лежит ли на серьге той Сила какая?
— Лежит, — кивает Борог спокойно. — Нехитра Сила та: от страсти любовной оберегает. Не всякая страсть князю ко двору. Великое несчастье для войска через женщину неправильную выйти может. Рюрик от этого сторожился — и правильно делал.
— Вот и слава Богу, — говорю, — а то я уж разное думать стал. Нехорошие дела у нас ныне творятся, боюсь я поэтому Силы незнакомой.
Вижу — нет зла на Бороге и особого интереса ко мне нет, значит, без опаски можно говорить с ним. И осторожно повел речь о том, что зверем одним очень интересуюсь. Небывалый зверь, Сильный, чтоб не сказать дьявольский. Досаждает он мне, но никак: не пойму: как брать-то его?
А Борог первым делом спрашивает:
— Оборотень?
Вздохнул я:
— Оборотень.
— В людском обличье встречал?
— Встречал.
— Бился?
— Бился.
— Пролилась кровь?
— Пролилась.
— Нехорошо.
И замолчал. Потом спрашивает:
— Ночью или днем зверь тот выходит?
— В сумерках выползает.
— И того, значит, хуже… Других зверей трогает?
— Волков задирает. Стаи на части рвет. В чем дело — понять не могу.
Покивал Борог, подумал:
— В зверином обличье с женщинами знается?
— Знается. От одной отвадил я его.
— Смертоубийство через это вышло?
— Не вышло. Тын я ее спалил — а больше никак не учил.
— Хорошо, хорошо. — Борог кивает. Потом спрашивает: — А отчего ко мне-то пришел? Сам Сильный ты, и слышал я о тебе.
— Молчит Сила моя. Ничего не говорит про зверя. А ты человек северный, свои у тебя дела, может, поможешь.
Снова покивал Борог и говорит, подумавши:
— Вот что тебе скажу. На моем веку такого не бывало. Оборотень — он либо лис, либо волк. А тут вовсе новый зверь какой-то. Точно — не из-под земли он, не из глубин?
— Точно, — говорю. — Сам проверял.
Посмотрел Борог на руку мою, с серебряной пылью вплавленной, но ничего не сказал, похмыкал, потом говорит:
— Сказка есть одна. От незапамятных времен. До сих пор не разберемся — для малых детей сказана или для Сильных дел. Так что если наврет сказка — не обессудь.
— В обиде не буду.
— Ну так вот. Сказка такая. Мол, появился в лесах наших зверь необыкновенный. Вскоре после смерти колдуна одного дело это случилось. Колдуна-то люди забили за Сильные дела. Тесаком серебряным кровь ему отворили… Да, объявился зверь и разбойничать стал. Язык человечий знал. Большая Сила у него была. Сколько злодейств учинил — и не перечесть. Не только людям — обычным зверям покоя не давал. Волков да медведей душил, лисиц лапой прибивал, до всех ему дело было. Много раз окружали его и топорами рубили — уходил зверь, да всякий раз с собой в чащу еще кого-нибудь прихватывал. Обратились к духам тогда. А духи и говорят: «Серебряный волк зверя того победит». И нашли тесак, которым колдуна того забили, поймали волка и к шкуре его пришили. Обезумел волк не то от боли, не то от Силы, и выпустили его на зверя. В клочья он его разорвал, а потом сам сдох, и земля под ним провалилась. Вот такая сказка была.
— На руку мою намекаешь? — хмурюсь.