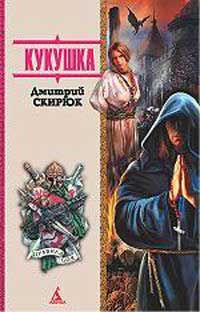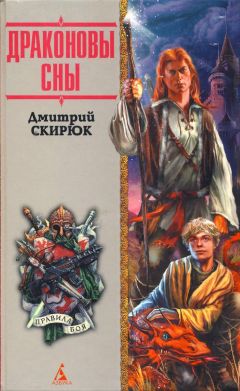— Прочти молитву, Сваммердам, — вдруг попросил он. Сваммердам удивлённо посмотрел на него, но подобрал свою культю и утвердился на коленях. Средняя палуба уже почти совсем скрылась из виду, вода подступала к надстройкам.
— In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, — строго вымолвил старик и посмотрел на Яльмара. Его смиренный голос тихо и настойчиво прозвучал в утренней тишине. Ни рокот водопада, ни отдалённый грохот битвы не могли его заглушить.
Норвег кивнул ему, опустился на палубу и теперь смотрел, как высоко вверху проплывают облака.
Pater noster, qui es in coelis,
Sanctificetur notnen Tuum,
Ad veniat regnum Tuum,
Fiat voluntas Tua,
Sicut in coelo et in tena
Panem nostrum quotidianum
Da nobis hodi
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et ne nos demittimus
Debitonbus nostris;
Et ne nos inclucas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
Amen.
Сваммердам умолк.
Яльмар, задумался на минуту, кого призвать — Одина или Христа, но так и не решил и промолчал. Вместо этого нащупал свой топор, прижал его к себе и так лежал, глядя в светлеющее небо, и не закрывал глаза, пока холодная вода не накрыла его с головой.
* * *
Сусанна уже не спала, когда Жуга проснулся, просто тихо лежала у него за спиной и ждала. Тихо как мышка. В комнате царил холод, камин погас, но вдвоём под одеялом им было тепло и уютно. И всё равно травник проснулся внезапно — словно в голове у него зазвучала труба: он дёрнулся, сел, обернулся, несколько секунд непонимающим взглядом смотрел на девушку, потом виновато улыбнулся, встал и принялся одеваться. Сусанна ни о чём не стала его спрашивать — она уже привыкла, что в последнее время Жуга всегда просыпается, будто от пушечного выстрела, с гримасой боли на лице.
А «последнее время» — это было всё время, которое она его знала.
— Уходишь? — спросила она.
— Да, — бросил он через плечо. — Прости, мне нужно срочно бежать.
Он с головой зарылся в рясу и теперь разыскивал рукава. Из ворота показалась рыжая голова с выбритой тонзурой. Взгляды их встретились, и на губах травника снова проскользнула быстрая, чуть виноватая улыбка. Сусанна подтянула одеяло повыше и надула губки.
— Почему ты всегда так убегаешь? — недовольно спросила она.
— Видишь ли, малыш, — задумчиво сказал Жуга, — люди почему-то всегда умирают внезапно. Если б я не поспешил к тебе тогда, ты, может быть, тоже умерла бы.
— А другие люди для тебя тоже так важны?
— Не знаю... Да. Наверное, да.
— А женщины среди них есть?
Жуга вздохнул, шагнул к кровати, сел и тронул девушку за волосы.
— Малыш, — мягко сказал он, — давай не будем дуться. Я уже вышел из возраста, когда ругаются из-за пустяков. Есть женщины. И дети тоже есть. Не надо на меня за это обижаться. М-м?
— Угу, — ответила девочка, хотя и взгляд её, и тон, которым это было сказано, не сулили ничего хорошего. — Ты всегда так говоришь. Почему ты всё время уходишь от меня? Я для тебя ничего не значу?
Жуга отвернулся. Сусанна не видела его лица.
— Прости, малыш, — глухо сказал он, — но там умирают люди.
Он взял посох, распахнул дверь и шагнул через порог. Шагов по лестнице Сусанна не услышала.
Она бессильно швырнула подушкой в закрывшуюся дверь и зарылась лицом в перину. Потом она ещё немного полежала, глядя в потолок и теребя распущенные волосы, затем со вздохом встала и тоже принялась одеваться.
Вчера Жуга вернулся вдребезги измотанный, один, без Рутгера, в каком бы тот обличье ни пребывал. С него лило; он даже не нашёл в себе сил пойти в дом Герты и заночевал в корчме у «Пляшущего Лиса». Сусанна осталась с ним. В последнее время подобное происходило с ними всё чаще и чаще. Не сказать, чтобы Сусанну это радовало, хотя следовало признать, что в некотором роде она своего добилась. Тётушка Агата позволяла ночевать у неё бесплатно. Вообще, насколько девочка успела заметить, хозяйка корчмы относилась к страннику с непонятной смесью уважения и сострадания, будто в этих чувствах находила выход её нерастраченная материнская любовь. Со слов Жуги, Сусанна знала, что детей у Агаты не было — ни своих, ни приёмных.
Как будто прочтя её мысли, Агата постучалась и вошла.
— Спите? — спросила она.
— Нет.
— А где Жуга?
— Уже ушёл.
— Ах ты ж господи... — расстроилась Агата, подвинула к себе табурет, села и сложила руки на коленях. — А я и не видела. И не позавтракал?
— Нет. Он спешил куда-то. Он теперь всегда куда-то спешит.
Агата покачала головой. Сусанна тем временем кончила умываться, завязала юбку и стала укладывать волосы в чепец.
— Зря ты это затеяла, девонька, — вдруг произнесла Агата.
— Что затеяла, тётушка? — обернулась Сусанна.
— С травником. Не дело это.
Сусанна с вызовом вскинула белокурую головку.
— Я его люблю! — сказала она. И густо покраснела.
Агата снова покачала головой:
— Девочка моя, ты ещё совсем дитя. Ты даже не знаешь, что это такое — любить. А я этого парня знаю десять лет. Почти одиннадцать. Видала всех его зазноб, видала его всякого, и в мире, и в злобе... Конечно, ты ему по сердцу, но уж поверь мне — зря ты это затеваешь... У него сейчас такое помрачение: не помнит он себя. Меня не узнаёт, порою имя своё и то забывает, откликается на брата Якоба, а иногда и этого не помнит. Позовёшь его, а он сидит и смотрит на тебя, как сыч, и будто вспоминает. И про тебя такой же стал. Блаженный он, как есть блаженный. Но и то правда, что не мне судить вас... Не гляди так на меня: я ж с тобой не спорю, впрямь ведь — дело молодое: стерпится-слюбится... всяко может быть. — Тут Агата поморщилась, потёрла грудь и посмотрела на девушку снизу вверх. Во взгляде её была боль.
— Что-то худо мне, — пожаловалась она, — знобит. И сердце ноет. Не иначе, мой муженёк опять какую-нибудь дурь затеял. Непоседа, ох, непоседа... Шестой десяток уж разменял, а всё никак не угомонится.
— Да ну что вы, право слово, тётушка! — неловко попыталась утешить её Сусанна. — Наверное, просто так заныло... к дождю...
— Наверное, — осторожно согласилась та. — Может, и к дождю. А только вот что я скажу тебе, девонька: поживёшь с любимым человеком лет с десяток — начинаешь чувствовать его, как себя, какие бы дороги вас ни разделяли. Когда души срастаются, всё больно, где ни ущипни... Ты слушай, слушай, а как подрастёшь, сама поймёшь, что так оно и есть. Я вот смотрю на Жугу и думаю: а странный стал лисёнок наш, и правда. Будто чувствует кого-то или что-то, боль чужую, так же, как вот я. Да не одну чью-то боль, а всех сразу. Потому он и срывается, потому и бежит куда-то, чтобы хоть немного притупить её, помочь, утешить... Ох, Иисусе Христе, помилуй мя за мысли крамольные, но я и вправду думаю порой — не святой ли он, наш травник. Не дёргала бы ты его. Не это ему нужно сейчас.