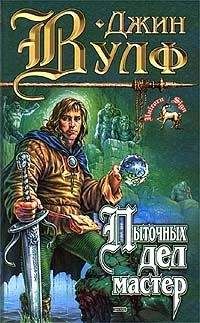– Значит, вся жизнь человека, целиком, заключена и в правой руке и в левой. Быть может, и в каждом пальце?
– По-моему, чтобы добиться эффекта, каждый из участников должен съесть не менее пригоршни. Но – по крайней мере, в теории – ты прав. Вся жизнь – в каждом пальце.
Мы уже возвращались туда, откуда пришли. Проход был слишком узок, чтобы разминуться двоим, поэтому теперь я шел впереди с канделябром, и кто-нибудь, увидев нас со стороны, наверняка решил бы, что я освещаю старику путь.
– Мастер, – спросил я, – но как же это может быть? В силу того же аргумента жизнь должна содержаться и в каждой фаланге каждого пальца, а уж это-то никак невозможно.
– А сколь велика человеческая жизнь?
– Не могу сказать. Но разве она не больше, чем…
– Ты отсчитываешь жизнь сначала, у тебя еще многое впереди. Я же веду ей счет до конца, который наступит вскоре. Наверное, поэтому и те извращенные твари, что пожирают трупы, ищут ее продления. Позволь спросить: известно ли тебе, что сын зачастую разительно похож на своего отца?
– Да, так говорят. И я верю в это. В голову помимо воли пришла мысль: похож ли я на своих родителей, о которых так никогда ничего и не узнаю?
– Тогда ты, безусловно, согласишься и с тем, что каждый сын может быть похожим на своего отца, и потому одно и то же лицо может воплотиться во многих поколениях. Таким образом, если сын похож на отца, а его сын похож на своего отца, а сын этого сына – на своего, то можно утверждать, что представитель четвертого поколения будет похожим на своего прадеда.
– Да, – согласился я.
– Однако же семя всех четверых заключено всего лишь в драхме клейкой жидкости. В самом деле, откуда же они взялись, если не из этого семени?
Не зная, что на это ответить, я промолчал. Вскоре мы добрались до двери, сквозь которую я вошел в нижний ярус хранилища. Здесь нас ждал Киби с остальными книгами, значившимися в письме мастера Гурло. Я забрал их у него, поклонился на прощание мастеру Ультану и с превеликой радостью покинул затхлое хранилище. Впоследствии мне еще несколько раз доводилось бывать в верхних ярусах библиотеки, но никогда больше не попадал я в этот огромный склеп. Даже желания вернуться туда снова не возникало.
Один из трех принесенных Киби томов превосходил размерами столешницу небольшого столика – кубит в ширину и почти эль в длину. Судя по гербу, вытисненному на сафьяновом переплете, это была история какого-то древнего и знатного рода. Остальные были гораздо меньше. Зеленая книжица – вряд ли больше моей ладони и не толще среднего пальца – оказалась собранием историй о праведниках, со множеством эмалевых изображений аскетических пантократоров и гипостазов в сверкающих ризах, с черными нимбами над головами. Я остановился на время в маленьком заброшенном садике с чашей фонтана, залитой ярким зимним солнцем, чтобы посмотреть.
Но прежде чем раскрыть одну из оставшихся книг, я почувствовал давление времени возможно, главный признак того, что детство оставлено позади. Я уже затратил самое меньшее две стражи на выполнение простого поручения, и скоро должно было стемнеть. Взяв книги поудобнее, я, хоть еще и не знал этого, поспешил навстречу своей судьбе в лице шатлены Теклы.
Вернувшись в Башню Сообразности, я принялся разносить еду подмастерьям, дежурившим в подземных темницах. На первом ярусе дежурил Дротт; его я навестил последним, потому что хотел поговорить с ним прежде, чем вернусь наверх. Голова моя все еще кружилась от мыслей, навеянных визитом к архивариусу, и мне хотелось рассказать Дротту о них.
Но Дротта нигде не было видно. Поставив его поднос вместе с четырьмя книгами на столик, я окликнул его и тут же услышал ответ из камеры неподалеку. Подбежав к ее двери, я заглянул в зарешеченное оконце на уровне глаз. Дротт был внутри – он склонился над распростертой на койке пациенткой, изнуренной женщиной средних лет. Пол камеры был забрызган кровью.
– Северьян, ты? – спросил, не оборачиваясь, Дротт.
– Я. Принес твой ужин и книги для шатлены Теклы. Тебе нужна помощь?
– Нет, все в порядке. Сорвала повязки, чтобы умереть от потери крови, да я заметил вовремя. Оставь поднос на столе, ладно? И, если есть время, закончи за меня раздачу еды.
Я колебался: вообще-то ученикам не положено иметь дело с теми, кто отдан на попечение гильдии.
– Давай-давай! Всех-то дел – рассовать подносы по кормушкам.
– Я принес еще книги.
– Просунь сквозь кормушку и их.
Какой-то миг я еще смотрел на него, склонившегося над мертвенно-бледной женщиной на койке, затем взял оставшиеся подносы и принялся выполнять просьбу Дрот-та. Большинству пациентов еще хватало сил подняться и принять передаваемую еду, но кое-кто не мог, и их подносы я оставлял у дверей – Дротт внесет после. По пути я видел нескольких женщин аристократического облика, но ни одна из них, похоже, не была шатленой Теклой, недавно доставленной к нам экзультанткой, с которой – по крайней мере, пока – обращались почтительно. Она оказалась в последней камере – о чем я мог бы догадаться и раньше. Камера эта, в дополнение к обычной обстановке – кровати, стулу и маленькому столику – была убрана ковром, а вместо обычного тряпья на пациентке было белое платье с широкими рукавами. Края рукавов и подол были здорово испачканы, однако платье до сих пор сохраняло особую элегантность, чуждую для меня так же, как и для самой камеры. Она сидела, неотрывно глядя на огонек свечи, отраженный в серебряном зеркальце, но, должно быть, почувствовала мой взгляд. Теперь я был бы рад сказать, что на лице ее не было страха, но, сказав так, солгал бы. Лицо ее было исполнено ужаса, который она изо всех сил старалась скрыть. – Ничего, ничего, – сказал я. – Я принес еду.
Кивком поблагодарив меня, она поднялась и подошла к двери. Она оказалась даже выше, чем я думал – голова ее едва не касалась потолка. А ее лицо – пусть скорее треугольное, чем округлое – сразу напомнило мне лицо гой женщины, что была в некрополе с Водалусом. Наверное – из-за огромных темно-синих глаз, окруженных голубоватой тенью, и длинных черных волос, очень похожих на капюшон плаща… Как бы там ни было, я полюбил ее сразу – полюбил со всей силой, с какой способен любить глупый мальчишка. Но, будучи всего-навсего тем самым глупым мальчишкой, не понял этого. Ее рука – бледная, холодная, слегка влажная и невообразимо узкая – коснулась моей, когда она принимала поднос.
– Еда – обычная, – сказал я. – Пожалуй, ты можешь получить кое-что получше, если попросишь. – Ты не носишь маски… – проговорила она. – Первое человеческое лицо здесь…
– Я – лишь ученик. Маску на меня возложат только через год.