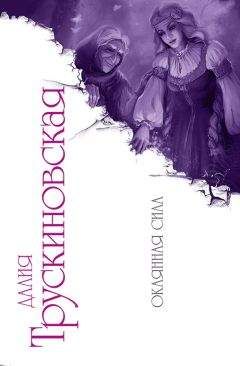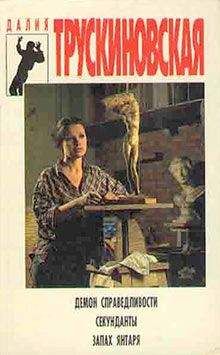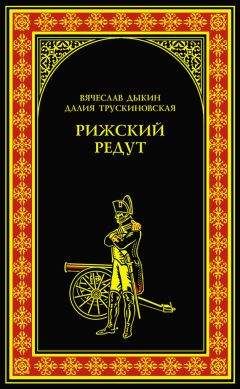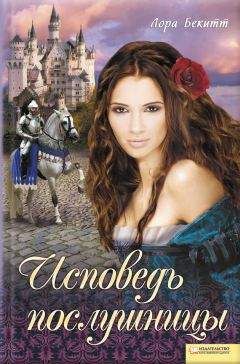Жалко Аленке глядеть на нее, у самой слезки на глаза наворачиваются. В обитель уж и не просится — на кого подружку оставить? Сгрызут ее Лопухины и не подавятся! Только и утехи Дуне — тайно впустить к себе Аленку, сесть вместе на лавочку, выговориться, девичье время вспомнить.
Но как ни таилась в уголке — углядела ее Наталья Осиповна.
— А ты, девка, что тут засиделась? Ступай, ступай к себе в подклет с богом! Сейчас ближние боярыни и постельницы придут государыню к царевичу сопроводить, потом ее укладывать будут! Ступай, ступай, Аленушка…
Вот и пришлось уйти.
На другой день с утра поспешили мастерицы в церковь, как-никак, Покров Пресвятой Богородицы. Самый что ни есть девичий праздник — если хорошенько помолиться, то пошлет Богородица государыне мысль приискать верховой девке жениха. И ведь приищет — исстари так ведется, за своих, верховых, ведомых, отдавать.
Вспомнила Аленка, на коленках стоя в малой церковке Спаса на Сенях, как шептала Дунюшка, стыдясь и волнуясь:
— Батюшка Покров, мою голову покрой! Покрой землю снежком, а меня — женишком!..
Ее осторожненько толкнули в бок. Рядом на коленках же пристроилась Пелагейка. По случаю праздника был на ней не обычный ее дурацкий сарафанишко из разноцветных суконных покромок, которые нарошно брали у купцов, потому что были края больших портищ ткани исписаны несмываемыми разноцветными буквами и цифрами, так что глядеть весело, а густо-лазоревого цвета нарядная телогрея, кика без медных позвонков — не то, что ей выдавалось раз в год, чтобы государынину службу править, а за свои прикопленные деньги купленное.
— Что не рада? — спросила. — Да не таись ты, свет!
Вздохнула Аленка — Пелагейке всюду зазнобы мерещились.
День в работе прошел, а вечером в подклете, где молодые незамужние мастерицы ночуют, новость сказали — государь уж в Преображенском! Шесть верст до Кремля — а он там ночевать остался, государыне Наталье Кирилловне грамотку прислал, прощенья просил. А жене-то не прислал…
Вздохнула Аленка — хоть бы Пелагейка прибежала сказать… Весь Верх шепчется, одни государыни Авдотьи Федоровны ближние женщины еще и знать не знают, ведать не ведают. Помолясь, легла, а сон нейдет. Хоть бы истосковался там Петр Алексеич по брачному таинству! Хоть бы позабыл там немецкую змею Анну…
Те шесть верст до Кремля государь долгонько одолевал. Сперва в Преображенском отдыхал и обедал, потом в Немецкую слободу к генералу Гордону поехал ужинать. И заночевал…
Ну, чем тут Дуню утешить?
А на другой день в Светлицу государыня Наталья Кирилловна пожаловала — глядеть, как начатую ею пелену к образу Богородицы девки дошивают. С нею же — Марфа Матвеевна, что за покойным государем Федором была, и Дунюшка, только Прасковьи Федоровны недоставало — отправилась на богомолье. Не успела родить дочку Аннушку, как снова полна утробушка. А при каждой государыне — боярыни ее верховые, и казначеи, и карлицы, без карлиц выходить вовсе даже неприлично, их для того и рядят в соболя, а при Наталье Кирилловне — дочь, царевна Наталья Алексеевна, с мамой, наставницей и боярышнями.
Хорошо хоть, не все к рабочему столу кинулись. Встали чинно вдоль стен, карлиц и малолетних боярышень с собой придержали. Первой государыня Наталья Кирилловна к мастерицам подошла. Многих поименно знает, ласково обращается. Дуня, бедняжка, и с мастерицами боится лишнее слово молвить. И боярыня Наталья Осиповна за ее спиной мается — не может дочку защитить.
Подошла Наталья Кирилловна к тому краю, где старушки сидели — Катерина Темирева да Татьяна Перепечина, обе чуть ли не по пятьдесят годков в Светлице. И Аленка к ним поближе пристроилась — мастерству учится.
Спросила государыня старушек, здоровы ли, глазыньки не подводят ли. Темирева, старуха грузная, да как и не быть грузной, коли полсотни годков сиднем за рукодельем просидеть, прослезилась и забыла, о чем сказать хотела. А Перепечина вспомнила.
Не зря же Аленка к ней два года ластилась, секреты перенимала.
— Дозволь словечко замолвить, — сказала, кланяясь в пояс, Перепечина. — Вот девка, шить выучилась добре, пожалуй ее, государыня, в тридцатницы!
Аленка, вскочив, окаменела с иголкой и шитьем в одной руке и жемчужинкой — в другой.
— Молода больно, — отвечала царица.
— Молода, да шустра. Матушка государыня, она того стоит!
— Довольно того, что в девки верховые взяли, — отрубила Наталья Кирилловна. — Пора придет — жениха ей присмотрю, свадебный наряд построю и приданое дам. А в тридцатницы — это заслужить надо. И разве помер кто из мастериц, что место освободилось?
— Государыня матушка, мы-то дряхлеем, старые тридцатницы. Нам в обитель пора. А эта девка, Алена, уж не больно молода, двадцать третий годок пошел, и ее рукоделье у тебя, матушка, на виду.
— Что ж так мала? Плохо кормят, что ли?
Аленка молча слушала этот разговор. Не отвечать же государыне!
— Она, государыня-матушка, по три деньги кормовых получает, всего-то. У тебя, государыни, мовница грязная, какая половики стирает, по шесть денег в день имеет!
Насчет половиков погорячилась Татьянушка, да с добрым намерением, что царица и поняла отлично.
— По три деньги? — Наталья Кирилловна решительно взяла из Аленкиных рук шитье, поднесла к глазам поближе.
Как все русские государыни, была она искусна в рукодельях, сама вышивала по обещанию для храмов, да и не было в теремах иного развлечения, вот разве что книги божественные. Светских же книг царицы чурались.
Подошла к матери царевна, Наталья Алексеевна, круглолицая красавица с длинной русой косой — недавно ей венец жемчугом низали и каменьями усаживали. Тоже взглянуть захотела.
Аленка, временно лишенная работы, стояла, достойно склонив перед царицей и царевной голову, так что при ее малом росте статная Наталья Кирилловна лишь макушку и видела.
— Татьяна Ивановна, поди сюда! — позвала она ближнюю боярыню, Фустову, бывшую свою казначею, у коей сохранилась отменная память на всё, с деньгами связанное. Та плавно подошла.
— Что прикажешь, государыня?
— Вели Петру Тимофеичу давать сей девке по пять денег кормовых, но в старшие мастерицы пока не переводить. В тридцатницы хочешь, девка? Потерпи. Я старых своих мастериц ради тебя звания лишать не стану. Вот прикажет кто из них долго жить — останется двадцать и девять наилучших. Тогда лишь тридцатой станешь.
Аленка низко поклонилась. Всё же это была царская милость.
Царицы обошли весь длинный стол, первой — Наталья Кирилловна, за ней — Марфа Федоровна, а там уж и самая младшая — Дуня.