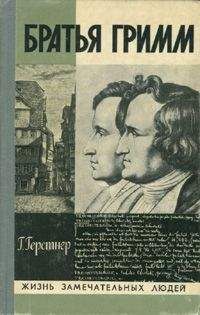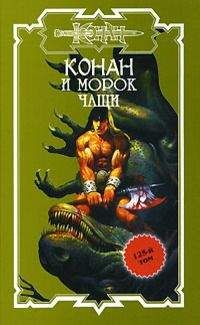— Ты хотел бы надеть эту одежду? — спросила она из-за лампы. — Примерь ее.
— А потом? — спросил он, ожидавший чего-то другого.
— Потом ты, прилично одетый, продолжишь путешествие во дворец Розового Короля.
— Откуда ты знаешь, что я туда иду?
Она указала на комнату, полную одежды.
— Они все туда шли. — И предвосхищая его вопрос, продолжила: — Доходили до определенного места, а дальше пройти не могли. Пожалуйста, одевайся! Она говорила так, словно его нагота теперь ее раздражала, хотя до этого он чувствовал ее восхищение и интерес. — А прежде чем пойдешь, можешь поесть с нами.
Она поставила лампу на сундук и вышла из комнаты. И снова, еще отчетливее, он почему-то вспомнил противное пощелкивание веретена в комнате матери.
Прошло много времени, прежде чем он остался доволен своей внешностью. Правда, парик сидел неуклюже. Прежде чем взять лампу и спуститься по ступенькам, он бросил последний взгляд в овальное зеркало до пола. Одежда, бесспорно, придавала ему солидности, и даже выражение лица казалось не таким мальчишеским. Чего-то еще не хватало, но он не смог решить, чего именно.
Три прядильщицы приготовили ему место за уличным столом, на козлах. Когда он сел, никто из них не сделал замечаний по поводу его внешности, и никто ничего не сказал, пока они хлебали бобовый суп и ели хлеб и фрукты. Девушки уселись так, что их физические недостатки не были видны, и он нашел их всех столь красивыми, что с трудом проглатывал пищу и яблочное вино.
— Я вам очень благодарен, — сказал он, когда спустилась ночь, а они все еще сидели за столом.
— Не за что, — улыбнулась девушка с опухшей губой, ставя посуду к горячим углям, чтобы помыть. — Если бы могли, мы помогли бы тебе больше. Но нам неизвестно, что происходит во дворце. До него нелегко добраться, это мы знаем.
Он кивнул, не желая знать, что сталось с теми принцами, одежда которых висела наверху. Она должна быть уже готова, вспомнил он слова матери. Для того, кто придет, когда настанет время.
— Возможно, мне стоит вооружиться? — спросил он, и едва это произнес, сразу понял, что именно меча ему не хватало, когда он смотрелся в зеркало.
— Да, мы можем дать тебе оружие, — ответили все трое, — если ты этого хочешь.
Девушка с уродливой ногой прохромала обратно в дом и быстро вернулась с мечом в ножнах на простой кожаной перевязи. Она вытащила его, чтобы принц мог проверить лезвие, и меч со свистом рассек воздух. Девушка застегнула пряжку на перевязи, легонько провела рукой по его штанам, и он почувствовал желание. Но тут все три девушки отступили к домику.
— Ты не боишься, правда? — спросила та, что привела его сюда.
— Чего я должен бояться?
— Это вопрос времени или того, право ли время. Для тебя, для любого другого.
Он улыбнулся. Но когда повернулся, чтобы уйти, воспоминания о пощелкивании в комнате матери так громко отозвались в его голове, что он был рад, когда печальная песня голубей на ветках бука их заглушила.
Перед тем как покинуть Марбург, Куммель подготовил корзину с едой на обед для профессора и фрейлейн. Поезд был уже в получасе езды от Касселя, и Куммель оставил свое место, чтобы сервировать легкую закуску в незанятом купе. Вернувшись, он обнаружил, что старик откинулся назад, а лицо у него цвета сыворотки — рот широко открыт, глаза закатились — фрейлейн же стояла, обмахивая его словно веером своей раскрытой книгой.
— Ничего, — выдохнул профессор через заложенный нос, заметив Куммеля. — Обычная болезнь путешественника. Ничего.
— Это произошло так неожиданно, — быстро проговорила фрейлейн. — Только что он спокойно читал и вот… Я слишком много всего позволила ему делать. Я должна быть предусмотрительней. Как вы считаете, может быть, ему следует дать нюхательную соль?
Куммель сел рядом с хозяином и ослабил ему галстук.
— Я полагаю, нам следует вывести его в коридор, на воздух. Там есть окно, которое можно открыть. Думаю, так он скорее придет в себя.
— Вы полагаете, ему можно двигаться? Ноги его удержат?
Но Куммель уже поднял его, приняв основной вес на себя, и вывел из купе. Оглянувшись на пороге, он увидел, что хозяйка опустилась обратно на свое место и смотрит неподвижным взглядом на сумки с багажом.
К тому времени как Куммель сумел открыть окно, Гримм вежливо сообщил ему, что в состоянии стоять на ногах без посторонней помощи. Куммель отступил, будучи все же начеку, глядя, как кровь постепенно приливает к впалым щекам. Профессор печально улыбнулся.
По правде говоря, ему было нетрудно служить. Он не просил гладить ему шнурки каждое утро, не изрыгал библейские изречения и нравоучительные сентенции. Он скорее казался смущенным тем, что ему служат, редко говорил, а когда ему отвечали, казалось, он не столько слушал слова, сколько вслушивался в то, как в них сочетаются различные звуки. Возможно, это естественно для человека, чьим именем назван закон о языке.
— Это непохоже на меня, — сказал Гримм к удивлению Куммеля, глядя на ряд домиков для новых работников. — Я обычно хорошо переношу путешествие. Переносил… многие годы.
Он вытащил платок и высморкался.
Оба смотрели на проносившиеся мимо золотистые поля и виноградники. В этих областях все еще встречались одетые как в средневековье сборщики урожая и извозчики в мягких широкополых шляпах. Они прерывали работу, чтобы помахать поезду, и дважды Гримм поднял руку в ответ. Мелькали небольшие сонные поселки, в щетине дымовых труб и угольных шахт, с выбеленными стенами и неровными, в рытвинах, пыльными базарными площадями, а вдоль линии горизонта все тянулась темная полоса леса. И повсюду, куда он ни смотрел, были дети, словно главный зерновой продукт. Куммелю эти земли казались безмятежными и в то же время неустроенными: непонятно какому миру принадлежавшие, ни древние, ни современные. На случайный взгляд все здесь выглядело удивительно тихим; ни один звук не нарушал тишину, даже вековой звон церковного колокола.
— Эта местность, — сказал старик, отбрасывая назад волосы, — некогда находилась под властью французов. Они превратили ее в королевство. Королевство Вестфалия. Здешний король приходился братом Наполеону Бонапарту.
— Я этого не знал, — ответил Куммель, — я полагал, что эта земля всегда была немецкой.
Странная тень пробежала по лицу Гримма.
— Немецкой она действительно была всегда, мой друг. И немецкой будет. Только ее оккупировали французы.
Куммель кивнул, совершенно не любопытствуя, где эта местность заканчивалась и начиналась следующая, где заканчивался один язык и начинался другой. Что такое национальная гордость, если не одна из форм почитания предков? И что на самом деле означают национальные различия? Взять хотя бы эти бесценные немецкие леса. Горластые патриоты, вздыхавшие по тому, что они называли Waldeinsamkeit, «лесное уединение», находили в них какое-то глубокое моральное значение. Но Куммель слышал в Гарце, что многие места здесь заросли завозными быстрорастущими Дугласовыми пихтами. Сам он всегда больше поражался чертам сходства, столь предсказуемо пересекавшим все границы.