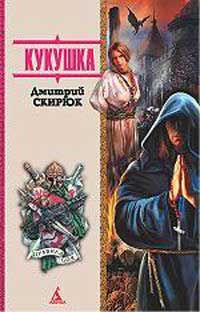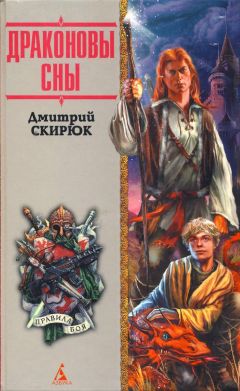— Церковники здесь! — выпалил он, улучив момент, когда вокруг никого не было.
— Какие церковники? — рассеянно спросила Ялка, снимая пену с варева. В последнее время она соображала несколько медленнее, чем обычно. Хозяйка фургона сказала ей, что это из-за беременности. «Крови-то в тебе — одной едва хватает, а надо на двоих, вот голове и недостаёт, — объяснила она. — Не думай об этом. Родишь — всё пройдёт». Ялка и не думала.
— Те самые. Испанский поп и его стража. Уже забыла?
Ялка почувствовала, что слабеет, и села на бочонок с водкой.
— Как они нас нашли?
Фриц помотал головой:
— Да никто нас не нашёл! Они не знают, что мы здесь: я спрашивал. Они вообще не за нами сюда пришли, у них какая-то другая надобность.
— Какая?
— Я думаю, они ищут Лиса.
— Лиса? — деревянными губами спросила Ялка. Кололо сердце, язык едва шевелился. — Так, значит, то был не сон...
— Какой сон? Ты тоже видела его?
— Нет, только слышала... Постой-постой, что значит: «тоже»? — Она схватила его за плечи и развернула лицом к себе, заглядывая в глаза. — Ты его видел? Где? Когда?
— Вчера ночью, — возбуждённо заговорил мальчишка. — У испанцев умирал один парень: его ранило, он пролежал три дня и стал кончаться. И тут пришёл какой-то монах с собакой и сказал, что вылечит.
— Ну и что? При чём тут монах и какая-то собака?
— А при том, что это не монах! Нам с Тойфелем стало интересно...
— Тойфель? Кто такой Тойфель?
— Наш барабанщик, его так зовут... Мы пошли посмотреть, было темно, но я его узнал. Говорю тебе: это наш травник! Он зачем-то оделся монахом, выстриг тонзуру, сбрил бороду... только я всё равно его узнал!
— А он? Он тебя видел?
— Нет. — Фриц помотал головой. — Там собрался народ, а я испугался. Спрятался за спинами. Но ведь если он пришёл один раз, то придёт ещё. Придёт ведь? А?
Ялка не ответила.
За разговором никто из них не услышал лёгких шагов за спиной, и оба вздрогнули, когда из темноты послышалось покашливание, и негромкий голос произнёс:
— Р-рах vobiscuin, юнкер... Добрый вечер, юнгфрау... Не прод-дадите мне кэ... кувшин вина?
Они обернулись и остолбенели.
Освещенный мягкими отблесками костра, перед ними был не кто иной, как брат Томас. Он стоял, спокойно глядя на них, и молчал. Не было никаких сомнений, что он их узнал. В руках он держал пустой кувшин.
— Ты! — воскликнул Фриц, вскакивая с места, как марионетка, и выхватывая из-за пазухи Вервольфа. — А ну, не двигайся, испанская собака!
Фриц ни разу не обнажал стилет при посторонних и далеко не был уверен, что сможет пустить его в ход, но был полон решимости это сделать. Сердце его колотилось как бешеное, он готов был драться со всей испанской армией.
— Я не испанец, — тихим голосом возразил монах.
— Всё равно! Я не позволю тебе привести сюда своих ищеек.
— И как ты со мной п-поступишь? — поинтересовался Томас. — Ударишь ножом и б-бросишь в реку?
— А могу и так! Думаешь, раз ты монах, то я ничего тебе не сделаю? У, прикрылся рясой... Да я тебя и без ножа побью! Иди сюда!
Маленький монах сделал шаг вперёд и остановился. Лицо его было спокойным и немного грустным. Взгляд был устремлён на девушку.
— Не надо б-бояться, — мягко сказал он. — Я пришёл говорить.
Ответа не последовало. Брат Томас посмотрел на девушку, на парня и вздохнул.
— Расскажите мне о т-травнике, — попросил он.
— Ишь, чего захотел! — изумился Фридрих. — А с какой стати мы должны тебе о нём рассказывать? Мы не у тебя на дыбе! И вообще, какой травник? Не знаем никакого травника!
— Погоди, Фриц, постой, — остановила его Ялка и повернулась к Томасу. — Скажи, почему, в самом деле, мы должны тебе о нём рассказывать? Что ты задумал?
— Т-ты ведь из Германии, — ответил Томас. — Я слышу это п-по выговору. И ты, Фридрих, тоже. Мне к-кажется, я вспомнил вас: мы были знакомы...
— Я? С тобой? — опять закричал Фриц. — Да никогда!
— Не к-кричи, а то нас кто-нибудь услышит. Это было давно. Мы жили в Гамельне, все трое. Вы, наверно, вспомните. До вступления в орден моё имя было — К-кристиан.
Воцарилось молчание. Потрескивал костёр. Лошади в сторонке мотали мордами и хрумкали овёс.
— Чтоб мне провалиться... — наконец потрясённо вымолвил Фриц.
— С нами что-то случилось, — продолжил Томас — Именно тогда. И причиною был травник. Лис. Жуга. Его я вспомнил т-тоже. И, мне кажется, вы тоже это п-помните. Я хочу знать, кто он. А вернее — что он.
— Для чего? Для чего тебе это знать, монах?
— Чтобы п-помочь.
— Кому?
— Всем нам. И ему тоже.
Ялка задумалась надолго.
— Услуга за услугу, — наконец решила она.
— Кукушка! Не сходи с ума!
— Фридрих, замолчи! — Ялка впервые за всё время разговора по-настоящему рассердилась. — Замолчи сейчас же! Что ты предлагаешь? Хочешь сказать, у тебя хватит духу его зарезать? Этот парень умеет загонять людей в угол, его этому учили. — Она повернулась к Томасу. — Ладно. Но слушай сюда: мы расскажем тебе всё, что знаем про него.
— Но и ты расскажешь нам всё, что о нём разузнал.
— Это разумно, — признал монах. — Audiatur et altera pars[112].
— Ты говори по-человечески, — одёрнул его Фриц.
— Я согласен.
«Вечный» суп мамаши Кураш хлынул через край и зашипел на углях.
...Рассказ был долог. Вернувшиеся Михелькин и престарелая мамаша-маркитантка застали странную картину. Ялка, Фриц и маленький монах сидели около костра и загадочно молчали.
— Что ж, — наконец задумчиво проговорил монах, — по крайней мере, мне ясно одно: он не Христос. И не сатана.
— Да чтоб тебя разорвало! — взвился Фридрих. — Ты всё никак не успокоишься. Да он же сам сто раз всем это говорил!!!
— Одно дело — слышать, как другие что-то говорят, и совсем д-другое — делать собственные выводы, — рассудительно ответил ему Томас. — Впрочем, это не важно. Т-те-перь уже не важно. Я хочу заключить с вами сделку.
— Сделку? Что ещё за сделку? Если ты не можешь помочь ему бежать или спасти его ещё как-то, то что ты можешь предложить?
— Я всё расскажу. Только не сейчас. Мне надо идти — меня ждут. Наполни мой к-кувшин. Вот полуфлорин... нет, нет — оставь сдачу себе: я п-потом зайду ещё. Нам теперь нужно много вина
— А что случилось?
— Я всё расскажу. П-потом.
* * *
Длинный ряд лежащих тел уходил в темноту. Сюда снесли всех тяжелораненых, чтобы лекари могли осматривать их разом, в одном месте, а не бегать от костра к костру, от палатки до палатки. Слышались стоны, пьяный храп, иногда ругань или истошные вопли, когда кому-то складывали сломанную кость или меняли повязку. Самые тяжёлые лежали под навесом, для остальных разводили костры. Иногда, то там, то здесь, дюжие парни, обходящие госпиталь, переглядывались, брали очередного умершего за руки, за ноги и несли в другой ряд — в темноту, за дальнюю палатку. Там уже никто не шевелился. Не было ни плача, ни женских криков, иногда какая-нибудь девчушка из полкового борделя приходила к своему милёнку, приносила вина, кусок печёнки, окорок и уходила, чтобы поскорей его забыть, ибо, в сущности, война не ведает любви.