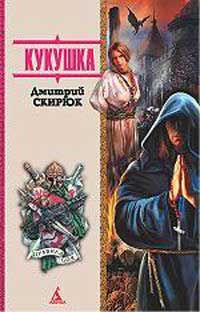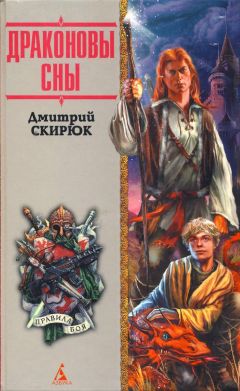Капли падали в лужи и расходились кругами, дробя отражения осенних звёзд. Лагерь испанцев был тих и уныл. Дождь успел всем надоесть до чёртиков, никто не веселился, не пел и даже не пил — все сидели, кто в палатке, кто под фургонным тентом, кто под плетёными навесами, и наружу носа не казали. Редкие полуночники у костров провожали девочку пустыми взглядами. Два или три раза за ней увязывались живущие при лагере собаки, Октавия вздрагивала, поправляла капюшон и ускоряла шаг, и они быстро отставали. Октавия прошла ещё немного, спустилась к реке и тут задумалась. Вряд ли Фриц пошёл по траве или через кусты — тропинки расходились веером, одна вела мимо пристани прямо на холм, где темнели силуэтами фургоны и возы. За последние два дня вода в канале сильно прибыла, пристань грозило затопить, и обеспокоенные торговцы передвинули повозки ближе к вершине холма.
Идти было скользко, холодно и страшновато. Без фонаря и факела дорогу едва можно было разглядеть. Плащ Октавии набух и отяжелел, плетёные кисти задевали землю.
— Не бойся, не бойся, — шептала она деревянному Пьеро. — Мы найдём Фрица, и никто нас не тронет. Видишь? Даже собаки нас не тронули...
В последнее время маленький Пьеро остался не у дел. Господин Карл исправно давал представления, но кнехты требовали сюжетов из своей, солдатской жизни, чтоб там было побольше пьянства, драк, грубых шуток и походов в бордель. Плакса и меланхолик, Пьеро мало подходил для этих сцен. Чтобы кукла не простаивала, итальянец сшил ей чёрный бархатный наряд и впредь велел именовать её Криспино, но девочка уже привыкла к имени Пьеро, к тому же для Криспино роли пока не нашлось, и кукла осталась у Октавии.
Девочка шла, и ею постепенно овладевало странное ощущение, что ночь смотрит на неё сотнями маленьких глазок, трогает мокрыми пальцами и раздевает её душу, словно луковицу, снимая слой за слоем шелуху и постепенно добираясь до самой сердцевины, до нежных зелёных лепестков, уснувших в ожидании весны. Прикосновения эти пугали и настораживали, Октавия крепче прижимала к себе куклу и представляла, как колючий страх, клубком свернувшийся чуть выше живота, собирается в невидимую жилу, тонкий ручеёк, перетекающий в кукольное дерево Чёрного Пьеро у неё на руках, как песок в песочных часах. От этого ей казалось, что кукла боится сильнее, чем она. Это странным образом её успокоило — девочка приободрилась, выпрямила спинку, подняла голову и с новыми силами двинулась вперёд.
И тут ей показалось, что её окликнули по имени. Тихо-тихо, но окликнули. Октавия обернулась и чуть не упала, поскользнувшись в луже, но чья-то рука, возникшая из темноты, поддержала её. С колотящимся сердцем девочка подняла глаза... и изумлённо ахнула.
— Дядя Хорн!..
Тот кивнул и грустно улыбнулся. Чёрная одежда, пелерина и сапоги делали его почти невидимым в ночи, и только белое лицо и такие же волосы выглядели ещё белее — казалось, будто они светятся каким-то внутренним, нетварным светом.
— Я думала, вы не поехали с нами, что вы ушли из «Песколаза»! Что вы здесь делаете? Вы шли за мной, да?
— Я пришёл, чтоб помочь, — ответил он. — Ты ведь идёшь искать Фрица?
— Да... А вы его видели?
— Видел. Дай руку.
Пальцы беловолосого дудочника были тонкими и холодными, словно отлитыми изо льда. Девочка вздрогнула, но руки не отняла. Пошла рядом.
— Мне нужно что-то сказать тебе, Октавия, — проговорил ван Хорн, уверенно шагая вверх, к холму, на котором стояли повозки маркитантов. — Что-то очень важное.
— Про что?
— Про твоего отца.
Октавия остановилась так резко, что её ладошка выскользнула из холодных пальцев.
— Вы знаете, где папа! Где он? Он здесь?
Ван Хорн снова грустно улыбнулся. Присел перед девочкой и запахнул на ней плащ.
— Послушай меня, дитя, — сказал он. — Послушай и постарайся понять. Мне будет трудно это объяснить... но ты всё равно постарайся понять.
Октавия наморщила лоб.
— Что понять? — спросила она. Внезапно детское личико исказилось пониманием. — Вы хочете сказать, что папа...забыл про меня?
— Забыл? — Теперь уже ван Хорн нахмурил брови, затем лицо его посветлело. — Пожалуй, да... — задумчиво сказал он. — Да, в некотором роде забыл. Но ты должна помнить о нём, очень сильно помнить! И очень сильно ждать.
— И очень хотеть, чтоб он пришёл к тебе. Вернулся. Вспомнил. Поняла?
— Поняла. А зачем?
— Так надо. Ты ведь хорошо помнишь его?
— Конечно, хорошо! Только почему вы мне всё это говорите?
— Завтра утром, — продолжал дудочник, будто не слыша вопроса, — в лагере состоится казнь. Казнят одного человека.
— Какого человека, дядя Хорн?
— Я не буду объяснять — тебе это знать ни к чему. Его зовут Лис.
— Он плохой?
— Не очень... Наверняка там будут Фриц и та девушка — помнишь? — из гостиницы на песках.
— Ялка? Да, я помню. Мы ещё разбрасывали руны...
— Держись подле них. Не отходи далеко.
— А они меня не прогонят?
— Постарайся сделать так, чтоб не прогнали. Тебе, наверно, будет страшно... Это очень страшно, когда умирают люди. Маленьким детям нельзя это видеть. Но ты потерпи. Так надо. Терпи и думай о своём отце. Закрой глаза — и думай. Заткни ушки — и думай. И желай, чтоб он вернулся. Сильно-сильно.
— Я всегда его жду! — пылко сказала девочка.
Ван Хорн рассмеялся, ласково щёлкнул её по носу, но даже в его смехе прозвучало что-то грустное, как в лунном свете, или в опадающей листве, или в крике северных гусей, летящих осенью на юг. Пока Октавия ойкала, хваталась за нос и ловила падающего Пьеро, ван Хорн уже посерьёзнел.
— Ты умница, — сказал он, — и ты действительно умеешь ждать... Но надо ждать в десять, в двадцать раз сильнее, если хочешь, чтобы он вернулся!
— Откуда вернулся?
— А вот этого я тебе не скажу.
Ночь, дождь, усталость и сонливость — всё это придавало сцене оттенок нереальности. Октавия чувствовала себя так, словно оказалась в каком-то другом, не нашем мире. От этого человека исходило странное ощущение уверенности, защищённости. Октавия и в прошлые разы об этом думала, а сейчас вдруг поймала себя на том, что её сбитые деревянными башмачками ноги больше не болят, в горле перестало першить, а заложенный нос стал нормально дышать. И вообще она чувствовала себя небывало легко и свободно. Если б на месте ван Хорна был кто-то другой — Тойфель, господин Карл или даже Фриц, — она бы всё равно немножечко боялась — самую чуточку, но боялась бы, — а так ею владело только любопытство, хотя на самом дне его девочка различала тень какой-то неосознанной тревоги. Дудочник недоговаривал что-то, но что Октавия не могла понять.