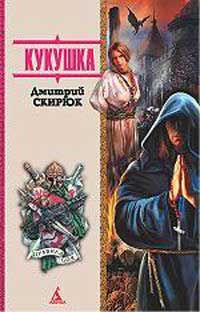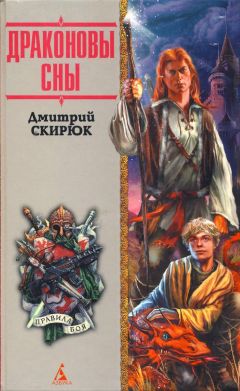— Нет. Меня прислала Кукушка.
Человек с трудом подобрал ноги и сел. Руки его были связаны за спиной, умело и без всякой жалости — он едва мог ими шевелить, Судя по тому, как он оглядывал палатку, он прекрасно видел в темноте, тем паче что как раз в эту минуту луна вышла из-за туч.
А перед ним стояла кукла — человечек ростом пол-аршина, с набелённым лицом, в чёрном балахоне и чёрной шапочке, скорее тоже нарисованной, чем действительно надетой. И что самое удивительное, на вид кукла была вполне себе живая: двигалась, глядела и, похоже, даже говорила. Это было настолько неожиданно, что узник невольно бросил взгляд наверх, посмотреть, не притаился ли на крыше кукловод и не дёргает ли за ниточки. Но кукловода не было, как не было и ниток — деревянный мальчик жил, говорил и двигался сам по себе.
— Кто ты? — спросил человек, сидящий на соломе. — Кукла, да?
— А кто ты! — вместо ответа прозвучал вопрос.
— Меня... — начал человек, но осёкся и прислушался к себе. — Я Якоб, — наконец сказал он, хотя и несколько не уверенно. — Брат Якоб, да?
Кукла покачала деревянной головой.
— Ответ неверный, — сказала она. — Вас зовут Жуга, господин Лис.
— Жуга? — Человек наморщил лоб. — Уверен?
— Да, — подтвердила кукла, — ты сам себя так называл когда-то. Маленькая девочка зовёт меня Пьеро. Я тоже знаю очень мало, но эти имена мне велено было заучить, и я заучил.
— Плохо помню, — признался человек, тряся головой. — Забываю. Дома нет, семьи нет, родины... ты говоришь: и имени нет. Кто тебя создал, телъп?
— Кукушка и Фридрих, — уточнил он. — Мальчик Фридрих. Это он сделал меня живым.
— Мальчик-маг, — вздохнул травник. — Жаль, не видал... Для чего ему?
— Мне велено сказать, что трое собрались и будут завтра утром там, где будешь ты. Вы знаете, что вас сожгут?
— Знаю, — помолчав, ответил травник.
— Они велели спросить: можно ли помочь?
— Год назад сказал бы — да, а сейчас пусть просто соберутся.
Травник смотрел на Пьеро и дивился. Деревянное личико было вырезано умелой рукой и очень толково раскрашено: две краски, пара-тройка скупых штрихов полностью передавали характер, выражали настроение. Когда кукла говорила, губы её оставались неподвижны, и откуда звучал голос, можно было только гадать. Набелённое лицо со стеклянной бусинкой слезы на щеке повернулось к травнику, и некоторое время кукла созерцала человека.
— Они слышат разговор? — спросил Жуга.
— Нет. Фриц хочет знать, что делать завтра. И Кукушка тоже хочет знать. Так что им передать?
— Ничего, — быстро ответил травник, так быстро, словно боялся, что может передумать. — Я помешаю советами — они знают больше, чем я; ко мне перестали приходить слова. Ты знаешь почему, кукла?
— Нет...
— И я, — со вздохом ответил травник. — Но догадываюсь.
— Я не буду спорить, господин Лис, — помолчав, сказала кукла, — я всего лишь маленький деревянный Пьеро, и мои нитки только два часа как оборвали... Но я хочу спросить: как можно быть в этом уверенным?
Жуга пожал плечами:
— Плохой бы я был учитель, коль не распознал таланта, — сказал он. — Как пастух отличит плохого ягнёнка по виду? У него уши висят и спина горбатая. Так и я.
— А если вы были плохим учителем, господин Лис? — полюбопытствовал Пьеро.
— Что ж, — ответствовал Жуга, — тогда получу, что заслужил.
— Неужели вы не боитесь умереть?
Жуга некоторое время сидел неподвижно и созерцал темноту. Вздохнул.
— Кукла, — мягко сказал он, — что ты знаешь о смерти? Мне никогда не было так страшно!
— Может, всё ещё можно повернуть, — неуверенно предложил Пьеро. — Фриц наказывал спросить у вас: быть может, вам снова нужен меч?
— Что за меч? — равнодушно спросил травник и вдруг встрепенулся: — Постой, не уходи! — позвал он. — Что за меч?!
Ответа не последовало. Луна спряталась в облака, а когда она вновь показалась над миром, кроме травника, в палатке никого не было.
— Мир тебе, деревянная кукла, — сказал человек. — Pax vobiscum.
* * *
Утро выдалось солнечным и ясным. В эту осень можно было по пальцам сосчитать такие дни, а лето, хоть оно и было жарким, Ялка провела то в застенке, то в бегах, то под землёй. Всю неделю стояли тухлые дни — шли дожди, шторм усиливался, слабел, но не думал прекращаться. И надо же было случиться, что именно в утро аутодафе установилась такая ясная и тихая погода! Облака угнало на далёкий горизонт, и небо сделалось синим-синим. Как в детстве.
Вечером солдаты натащили хвороста, а на двух подводах привезли дрова. Всё это сложили в громадную поленницу, видимую издалека; посредине торчал столб, вкопанный в землю. Всё было промокшее. Солдаты работали вяло, без удовольствия, ворча, что колдуна можно просто вздёрнуть на глаголь, а дровам найти применение получше: топливо в последние месяцы было в сильном дефиците, ожидались холода. Однако рассвело — и со всех сторон к холму потянулись люди. За ночь вода поднялась, затопила овраги и ложбины, приходилось идти в обход или пробираться по каким-то жёрдочкам, наспех перекинутым через глубокие лужи. Все проваливались по колено и недобрым словом поминали морских гёзов, разломавших дамбы и запруды.
Ялка зря волновалась: проблема присутствия на казни разрешилась просто — музыканты испросили дозволения у командиров прикатить сюда фургон с выпивкой, получили оное, после чего осталось только уломать маркитантку, а уж это не составило труда. А что колёса повозки вязли в грязи, так семеро крепких мужчин за час с небольшим чуть ли не вручную прикатили её к костру. Солдатня встретила появление повозки шумным одобрением: горло промочить всегда приятно, а внутри были заветные бочки. И Ялка.
Было шесть или немного позже (у неё перед глазами не было часов). Во всяком случае, уже рассвело. Солдат всё прибывало, толпа росла. Кто-то уже ворчал, недовольный тем, что дело тянется так долго, другие облюбовали подсохшие пригорки и потянулись до фургона — выпить и закусить. К прилавку непрестанно лезли солдатские руки — в ссадинах, в мозолях, в цыпках, перевязанные грязными бинтами... Монетки весело отплясывали на оловянном подносе. Девушке было страшно в окружении этих серых лиц, оскаленных зубов, блестящих глаз... «Но ведь кукушке, — вдруг подумала она, — настоящей кукушке тоже страшно, когда она залетает в чужое гнездо. Ведь страшно? Да!»
Во всяком случае, отступать было поздно.
Как ни странно, эта мысль её слегка приободрила. Стараясь не думать о том, что вот-вот должно произойти, она засучила рукава и принялась помогать маркитантке разливать вино и нарезать копчёности. «Так-то оно лучше — усмехнулась матушка Кураш. — Смотреть смотри, а дело делай!» Кухонная рутина, привычные движения, усталость помогли ей отвлечься и успокоиться. В своём сером платье, в чепце, который почти полностью скрывал лицо, Ялка выглядела неприметной мышкой. Михелькин, например, не решился с ними ехать, хотя на казни присутствовать был не прочь.