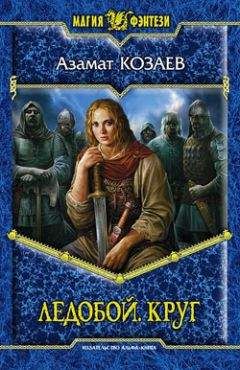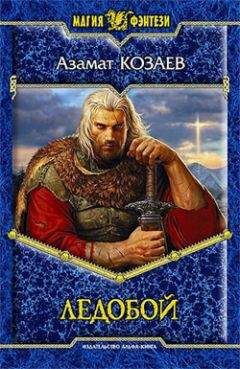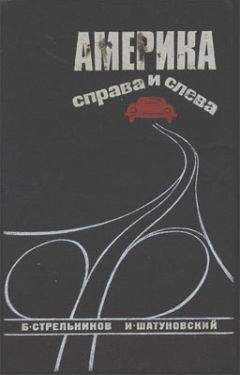— Я сказал то, что видел.
— Ай да, Шкура, ай да молодец! — крикнул кто-то. — Нашёл способ расквитаться. Не силой да умением, так хитростью!
Млеч и ухом не повёл. Речкун подошёл к Кабусу и пока подходил, купец всё пятился, за Шкуру отступал, отворачивался да руки поднимал, будто от беды загораживается.
— Боится он. Разумом ослаб, — буркнул Шкура. — Спросить что хочешь, мне скажи. Я единственный, в ком он не видит Синюю Рубаху. И то лишь потому, что всё время на его глазах был.
Речкун что-то негромко сказал, млеч повернулся к хизанцу и повторил. Воевода осторожно подошёл ближе, но чтобы не пугать очевидца сверх меры повернулся спиной.
— Это сделал жуткий человек в синей рубахе с рубцами по всему лицу! — громко провозгласил Речкун, а в рядах бояр пошла волна — едва с мест не повскакивали, вокруг князей сгрудились, что-то зашептали.
Шкура покосился в сторону родовитых да именитых и презрительно сплюнул. Ты гляди, едва из портов не выскочили. Отвада несколько раз мотнул головой, не соглашаясь, но в конце концов, утвердительно кивнул.
— Подведите видока к чёрной клетке! — прорычал сияющий Косоворот, будто самолично сподобился отрубить башку молниеносному Синей Рубахе, даже махнул в сторону клетку, будто нет здесь больше ни князей, ни бояр — властно, со значением.
— А не боишься, боярин? — Шкура немного подвинулся, закрывая собой Кабуса.
— Одного боязливого хватит, — расхохотался здоровяк. — Да и чего бояться?
— Ну да, если Кабус душу богам отдаст, тебе то что? — млеч хищно усмехнулся уголком рта.
— Сказано, подведи! Правду ищем, понимать надо!
Речкун, неодобрительно качая головой, многозначительно взглянул на Шкуру и взял купца за правую руку. Шкура плюнул, пристроился слева и что-то шепнул Кабусу. Тот начал коситься за спину, совсем не глядя вперёд, да ещё сам порывался обогнать провожатых. Только у самой клетки, когда стража раздалась в стороны и его поставили против Сивого, купец перестал коситься за спину и взглянул перед собой.
— Тварь Сивая, повернись и посмотри на него! — рявкнул Косоворот.
Безрод, до этого глядевший в сторону, нехотя повернул голову прямо и закрыл глаза. Бешеный, нечеловеческий крик испуганной птицей раскатился вдоль Озорницы и улетел к морю. Кабус, точно подкошенный, рухнул наземь, свернулся клубком, чисто малец в утробе, и забился, тряся головой.
— Пена, твою мать, — рыкнул Шкура, сорвал с себя пояс и сунул кожу в зубы до смерти перепуганному Кабусу. — Руки-ноги держи!
Речкун навалился на рухнувшего купца, стража от неожиданности попятилась, толпа задышала, по ней забегали волны. Отвада в бешенстве стукнул кулаком по подлокотнику сиденья и зло оглянулся на Косоворота. И будто посреди ясного солнечного дня раскатился гром и сверкнула молния — откуда-то прилетел свист, оглушительный до того, что люди близ клетки уши позажимали, а кто стоял подальше, жмурился да отворачивался, как будто от звука в чистом поле куда-то схоронишься. А когда свист растворился в воздусях и повисла такая тяжелая тишина, хоть ложками черпай, кто-то зычно, песенным голосом рыкнул: «Подтащи его ко мне», и никто в целом мире не понял бы, что это Безрод, если бы он не встал и не подошёл.
Речкун и Шкура ещё недоумённо оглядывались по сторонам — кто сказал — когда Верна крикнула что было мочи: «На клетку гляди! На клетку!»
Бабы в боярском кружке удивлённо переглянулись, а Коса и Луговица осенились обережным знамением — охраните боженьки! Да она же орёт громогласно, под стать душегубу! Вот это глотка у бабы. А младенец на её руках даже ухом не повёл. Спит, пузыри пускает!
— Гля, да это же Сивый! — люди показывали друг друга на клетку.
— Добить что ли хочет, не пойму? — кто стоял подальше, тянули шеи да глаза щурили — плохо видно.
— Шкура, отдай, — весело крикнул кто-то. — Хуже не будет! Всё равно уже не жилец!
— Ага, — прилетело с другого конца толпы. — Удушегубит, и доказывать ничего не надо!
— Отец! — в кружке видоков против Сивого пошло движение, какой-то молодой мужчина порывался пробиться к клетке, но на нём повисли, сбили с ног, накрыли телами и обездвижили так, что его и видно не стало.
Речкун и Шкура переглянулись, и старый воевода кивнул. Подтаскиваем.
— Лицом ко мне, — Сивый присел. — Раскройте ему рот, да не давайте сомкнуть зубы.
Шкура вынул из ножен кинжал, сунул рукоять Кабусу в зубы, а Безрод, вытянув руку меж брёвен клетки, несколько раз перебрал пальцами, будто раздавил что-то, и в рот несчастному потекло тонкой, сиротской струйкой.
— Что это? — Речкун с недоумением смотрел, как подсудимец разжимает здоровенный кулак и мимо кинжала заталкивает в бедолагу какой-то жмых.
— Яблоко, — усмехнулся Безрод. — Огрызок. Не доел вот. В углу валялся.
Сначала Кабус перестал биться и стучаться всем телом о землю, потом успокоился и обмяк, там и пена с губ ушла. Его унесли.
— Ну дела! — низкий гул, повисший над судилищем, разрезал звонкий бабий голос. — Эй Сивый, ещё есть? Мой, когда напьётся почти такой же! Только не об землю стучится, а об меня! Да почему-то всё кулаками!
Когда Безрод, усмехаясь, пожал плечами да руками развёл, а зеваки разразились громким хохотом, Смекал, Кукиш и остальные волками зыркнули на Косоворота. Тот мрачнее мрачного ковырял глазками-угольками подсудимца и в бессилии от злобы что-то шептал.
— Свободен! — Отвада отпустил Шкуру, но млеч будто не услышал. Князь нахмурился, поглядел на млечского собрата, на соловея, на былинея и громко, отчётливо повторил, — Ты рассказал всё. Здесь глухих нет. Ступай, переведи дух.
— Эй, парень, — Речкун легонько толкнул млеча, — Уходи. Князь отпустил.
— Меня выслушали, — Шкура с места не отшагнул и даже вида не сделал, что услышал судейского глашатая. — И на том благодарю. А кто-нибудь спросит, что я об этом думаю?
Даже до того, как Отвада раскрыл рот, со всех сторон полетело:
— Режь правду, Шкурка!
— Зажигай!
— Отпусти язык! Не сдерживай себя!
Млеч покосился на помост. Отвада согласно кивнул.
— Многие тут знают — с тем, кто сидит в клетке, у меня дружбы никогда не было. И не будет.
— Ещё бы, — подсказал кто-то из зевак, — Он тебе рожу так начистил, что при словах «дружба с Безродом» у тебя остатние зубы сами собой от ужаса выпадать начинают!
Бурю гогота млеч отстоял невозмутимо, ждал, когда отзвенит последний смешок, ровно дождь под навесом перестоял. Потом продолжил.
— Но ещё меньше по нраву, когда из меня дурака делают. Сивый не медовая завитушка, нравиться не обязан, только без причины избивать торговые поезда он не стал бы. А если и стал бы, я оказался бы последним, кому он оставил жизнь. А в этом деле так удобно всё получается, просто диву даёшься: в живых остался как раз тот, кто на Сивого не просто зуб имеет — волчий клык! Да притом знает, как облупленного. А этот ещё на коне передо мной иноходит: с одного боку повернётся, с другого, так дал себя рассмотреть, потом с другой стороны. Уверен, сказал бы я в то мгновение, что не узнал лиходея, Синяя Рубаха вернулся бы, все телеги запалил бы посреди дня, чтобы видно было получше и сам назвался бы. Дескать, это же я Безрод, не узнаешь что ли…
Ассуна тревожно посмотрела на молодого боянского ворожца. Очень удобно — вокруг толпа ржёт, со смеху покатывается, будто не суд кругом творится, а ряженые представление дают — и никому нет никакого дела до нескольких человек, далёких от смеха как никто в этой толпе. Ненаст зловеще улыбнулся, покачал головой.
— Он не нарушил условий договора. Обещал сказать про человека с рубцами в синей рубахе и сказал. Ваш Ужег сделал всё как надо. Но тут не повезло. Заклятие его не поломает.
— Но…
— Два. Два обстоятельства, — молодой хищно улыбнулся, растопырил два пальца. — Люди меняются. И мы этого не учли.
Потом позвали видоков за Безрода, и когда толпа слушала углекопа, Ладку и Пламенька, равнодушным не остался никто. Сивый, увидев случайных знакомцев, даже брови приподнял, а когда углекоп попросил у князя разрешения для пущей верности замотать подсудимцу лицо тканиной, чисто раненому, усмехнулся.