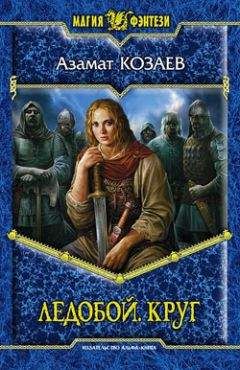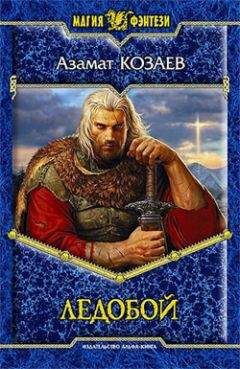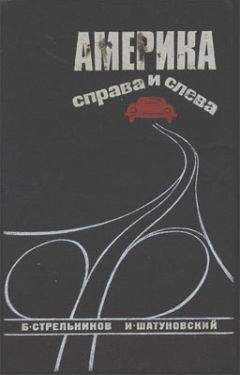— Только посмей рот раскрыть! — шепнул Безроду на ухо Алчуй, топавший в шаге позади — старший сын Косоворота, воевода охранной дружины. — Или кто-то в толпе, не приведите боги, пострадает. А что? Хотели напасть на стражу и дать тебе сбежать.
Безрод покосился назад, усмехнулся и только метнул взгляд в сторону старика. Тот, хоть и щурился, хоть и морщился, тем не менее выхватил цепкими стариковскими глазами каждое несказанное слово, каждую полутень, и когда вослед ходу с подсудимцем прилетело: «Сынок, ты бы выдохнул, а то надулся как пузырь, неровён час взлётишь!» Алчуй какое-то время торжествующе лыбился. Получи, подлый душегуб! Недолго лыбился. Пока не полетели смешки. Обозлённый Косоворот-младший резко обернулся, но старика и тень пропала. Наверное за спинами спрятался. Алчуй пыхтел-пыхтел, водя глазами по зевакам, но в конце концов шумно выдохнул.
— Так-то лучше, а то уж багровый стал! — прилетело с другой стороны.
Косоворотовичу хватило ума не начать рычать и рыскать взглядом по толпе, всё равно никого не нашёл бы. Упёрся бы в чьи-нибудь непонимающие глаза и поди доказывай, что не медведь. Рожу-то можно расквасить, но тогда сочувствия Сивому ублюдку будто телегами подвезут.
— Не верится мне что-то, — вослед ходу из-за спин соседей буркнул дед Пыляй, старейший в конце каменотёс. — Тут режет, там спасает. Не-а, не Сивый это.
— А вдруг следы путает? Как заяц. То сюда прыгает, то туда.
— Заяц петляет, когда от опасности бежит, стало быть надобность в этом просто башку оторви да выбрось. А Сивому что за надобность Боянщину кровью заливать?
— А вдруг Злобог его к себе обратил…
— Лучше помолчи. Кого надо, Злобог уже давно к рукам прибрал… — Алчуй загривком почуял — в спину глядят, аж щекотка по хребту побежала.
Глава 51
— Он там. Пьёт, — Зарянка кивнула на расписную дверь с резной медной ручкой.
— Один что ли? — Верна покосилась на подругу с недоумением.
— Не-а. Допреж тебя Гремляш был. Но и теперь князь не один брагу ест. С другом.
— Там же нет никого! Сама говорила.
— Отвада уверен, что я не знаю и не догадываюсь. Там на своде нарисован белый конь, и когда моему делается тошно, он глаза поднимает. Жеребец в душистых травах бежит, ни упряжи на нём, ни седока, только цветы и вольный ветер. А загляни Отваде в глаза, вот честное слово — жить расхочешь, такая там тоска. Иногда мне кажется, что в один из дней он сядет на белого жеребца и я больше его не увижу.
— Хм, с белым конём пьёт…
— У него когда-то был белый мерин. Из рубки его полуживого вынес. Ещё до меня. Ты на него зла не держи. Да и на меня-дуру. Сама ничего не понимаю.
— Ладно, разберёмся, — буркнула Верна, берясь за ручку.
— А платье у тебя просто огонь! — Зарянка придержала Безродиху за руку. — Узор долго вышивала?
— Три седмицы.
— А шил кто? В пояске тонкая, а груди так и лезут наружу! Аж за моего боязно. Отберёшь покой, что делать буду?
— Ясна шила, а покоя у Отвады нет давно. Я пошла.
Отвада сидел у окна, таращился на подступающие сумерки и цедил заморскую бражку, время от времени ковыряя взглядом свод. Верна сделала несколько шагов неслышно, как привыкла, а где-то с середины горницы затопала, будто на бегу. Хватит с конём разговаривать, время с людьми толковать. Князь выкрутил шею на звук шагов, изумлённо булькнул и встал.
— Верна, ты?
— Я.
Отвада какое-то время неловко молчал, исподлобья таращась на Безродиху. Потом набрал воздуху.
— Просить пришла?
— Вот ещё, — Верна криво ухмыльнулась и тряхнула тяжёлой косой. — Выручать пришла. Сивый наказал.
— Выручать?
— Тебя язык не слушается. Брага в плен взяла или слово трудно даётся? Ещё раз: Сивый. Прислал. Тебя. Выручить.
Питейку браги Отвада уговорил точно и теперь глядел на Верну и морщился, ровно от боли.
— Он уверен в том, что спасать нужно именно меня? При том, что сам под мечом ходит?
— Сивый всю жизнь под мечами. Привык уже. А под некоторыми и дважды.
Отвада несколько мгновений непонимающе моргал, будто подарок доставал из мешка, а тот и сам в мешке… а тот и сам в мешке… а когда достал, его аж затрясло.
— Постой, ты сказала под некоторыми дважды?
— Да.
— Ты на что это намекаешь?
— Намекаю? Режу правду-мать в полный голос, глаз не прячу. Под твой судный меч второй раз встаёт. На этот раз уж с концами?
Спросил бы кто, как хмель с человека в одно мгновение слетает, что при этом в горнице делается, как питейщик преображается, Верна рассказала бы подробно: ровно из старой шкуры вытряхнули, да в новую сунули, аж волосы на голове дыбом поднялись; в нутро угля толчёного засыпали, взболтали, да через глаза, точно через окошки, смотреть стали — муть осела, прозрачная голубизна осталась. И выглянул Отвада через новые, трезвые глаза обиженным, будто малец, которого крапивой стегнули по голенькой попке.
— Ты что же думаешь, будто видокам глаза отвели, видели не Сивого? Может быть не он торговые поезда избивал? А Зарянку боярам кто продал? Дед с горы?
Верна зубы так сцепила, аж на скулах заиграло.
— Не обижайся, князь, но будто не в своём ты уме. Ровно заворожён. Одни видоки говорят за Безрода, другие против, но отчего-то веришь тем, кто против.
— Всё глаза решают. И видели в синей рубахе не кого-нибудь, а Сивого, — Отвада отвернулся к окну, с силой стукнул по стене.
— Думай, как хочешь, — Верна упрямо тряхнула головой, — этот разговор завела не я. Меня Сивый послал тебя выручить, вот… исполняю просьбу.
— Что он придумал? — глухо буркнул князь…
А когда Верна договорила… а когда у князя получилось захлопнуть рот и начать дышать, она, не прощаясь, развернулась и пошла к двери, Отвада глотал воздух, глотал но всё же не выдержал и заорал:
— Страна на попечении — это тебе не тряпки перебирать! У меня не один Безрод, у меня вся Боянщина! Я обо всех должен думать! Целая страна в разнос идёт, а всё на этой вот шее висит, — Верна услышала за спиной глухие шлепки, не иначе Отвада по собственному загривку ладонью хлопал. — Брат на брата войной идёт, грызутся, кусаются, заповеди забыли, а ведь один народ!
У самых дверей она остановилась, помедлила и повернулась.
— Ты со мной, как с дурочкой не говори. Я сама дочь князя и худо-бедно ваши княжеские заморочки видела и знаю. Что ты там себе напридумывал — твои дела. Сам разбирайся. Я тебе не подруга и вряд ли когда-нибудь стану, только нет у тебя единого народа и нет больше одной Боянщины для всех. У каждого своя Боянщина. У Сивого — это застава и служение. У пахаря — это глаза в землю и кружение головы вечером от усталости, а у Длинноуса… — она усмехнулась, подняла глаза, — золото в мошне, да вся земля за пазухой. Пошеруди там, за пазухой, может найдёшь Боянщину. А найдёшь, раздай людям, когда не лень.
Дверь хлопнула давным-давно, но Отвада ещё долго таращился в расписные створки, не мог взгляда отвести, ровно на самом деле приворожили.
* * *
— Вот ты где, князь, — в горницу вошли Косоворот, Кукиш и Смекал. — А тут эта рысь промчалась по лестнице, во глазищи! Мало не шипела! Я ещё остановился, на ступеньки глянул — царапины от когтей есть или нет.
— Какая рысь?
— Ну, Безродова жена, — Косоворот сально улыбнулся. — Хотя… ничего такая кошечка. Я с ней покувыркался бы на сеновале.
— Может ещё покувыркаешься, — хихикнул Кукиш и хлопнул здоровяка в плечо. — Вот Сивому башку оттяпаем и можно ехать утешать вдовушку. Они в горе страсть какие горячие!
— Уверены, что оттяпаем? — глухо бросил Отвада.
— А то!
— Вообще-то суд ещё не закончен. Всякое может быть.
Бояре переглянулись.
— Мы чего пришли-то… как раз насчет того, что всякое может случиться. Нет, мы понимаем, если не вовремя, если один хочешь побыть, ты только скажи.
— Один? Вы про что?
Трое переглянулись.
— Так ведь это… несчастье у тебя.