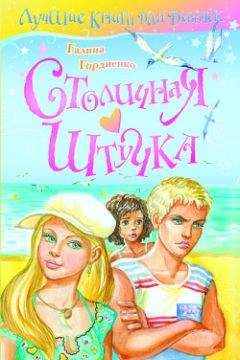— Не жалуюсь. Бездельничать не приходится. Летом снова путешествовал. Помнишь, Корд, книгу Унтаха кан Орвен? Я отвёз эту книгу его родичам, на Чёрный Перевал.
— Ты отвёз что?! — воскликнул друид, страшно глядя своими зелёными очами.
— Книгу. Меня там хорошо приняли. Но это потом. А сначала наставили копья, а я же ни слова их языка не знаю. Ну откуда бы мне знать?.. Достал эту книгу и протягиваю: "Унтах кан Орвен". Они переглянулись и отправили меня к старшим.
— Это правда, что ими правят женщины? — спросил Дэор.
— Не совсем. Просто все при своих занятиях.
— А правда, — спросил Асклинг, — что там в озёрах водятся чудища?
— Я не видел, и не думаю, что кто-то может жить в таком холоде. Озера ледяные. Я поклялся — до Замка — что пересеку весь Эльдинор только для того, чтобы искупаться в подземном пруду.
— И как удовольствие? — полюбопытствовал Дэор.
— Сомнительное, — буркнул я. — Но зато я не скажу, что свартальфы — плохие хозяева. Я виделся с матерью Унтаха, престарелой Орвен. Знаете, о чём она спросила? Одел ли он шарф! Шёлковый шарф, который она сама ему сшила! Они их повязывают на шею и правое плечо. А я забыл, одел ли он тогда этот проклятущий шарфик. Как он колдовал — помню. Как мы рубились — помню. Как он умер с волчьей улыбкой на устах, обагренных кровавой пеной — помню. Но Мунин, ворон Всеотца, оставил меня, когда она спросила о шарфе.
— А ей ты что сказал? — спросил Аск тихо.
— Я похож на дурня? Сказал — одел, конечно. Она улыбнулась, тепло, нежно, спокойно, и погладила меня по голове. Сыном назвала. Мне дорого стоило не разрыдаться в тот миг…
И тут наш чародей Корд'аэн О'Флиннах захохотал. Он хохотал, как полудурок, улыбка бешеного уродца исказила его лицо, и я понял, что ещё никогда не видел его таким. Безумным. Бессердечным. Захлёбывающимся чужим несчастьем, чужим горем, чужой скорбью. Я не хотел видеть его таким — падальщиком, стервятником, вороном-трупоедом, вонючей росомахой… упырём, икающим в наслаждении укуса.
Но — видел.
Отсмеявшись, он пригубил пива и молвил:
— Старые счёты, Снорри… Я… мы не очень любим древнюю Орвен. Я искал ту книгу. Я рыл трупы цвергов в её поисках. А она оказалась у тебя. У тебя! А там, под кожаным переплётом, — страницы, исписанные судьбами. Теперь там прибавилось страниц. Когда та книга будет дописана… Это будет прекрасная вещь, из тех, которые губят владельцев и меняют судьбу мира.
— И ты хотел сжечь её? — спросил Асклинг. — Или прочитать?
— Я хотел дописать эту книгу. Видно, не судьба.
Потом помолчал немного и добавил своим обычным голосом, мягким и тёплым:
— Снорри, я знаю, ты разделил с ним смерть. Но этот смех — единственное, за что я не стану просить у тебя прощения. Мы с ним — не просто враги. Над врагом я бы не смеялся… И то, что мы стали втроём и загадали Кромахи загадку, мало что меняет. Он достойный человек, великий воин, великий чародей, великий поэт, и прежде всего — верный сын своих родителей и своего народа. Он — самый большой упрёк этому миру. Что говорить — мы все упрёк девяти мирам…
Я горжусь нами. И ненавижу нас. И… я люблю вас, друзья. Всех вас.
Он поднялся с полным кубком в руке — закованный в суровость, облачённый в величие, а багряницей ему было мрачное торжество на самом краю смерти — и хребет мой сам вытянулся ратовищем копья, заставляя встать. Асклинг и Дэор также стояли, печальные и суровые, в ожидании священного круга чаши. Корд отпил молча и опусти взор, а кубок перешёл к Дэору.
Не надо быть мудрецом, чтобы понять, за кого мы пили. Чаша двигалась в торжественном безмолвии, и мне казалось:
Борин в волчьей накидке принимает чашу, отложив свою рогатую арфу, кивает в знак благодарности, и хитро улыбается;
Дарин, молодой сын конунга, принимает чашу из рук скальда, высоко поднимает над головой, и взор его сияет, как у ребенка, а шёлк на плечах кипит молодым вином;
Тидрек, ворчливый мастер-ювелир, забирает чашу у ярла, пьёт, а после кряхтит, отжимая одной рукой свою чёрную курчавую бороду; он бурчит и глядит исподлобья, но глаза его светлы;
Эльри с важным видом отпивает и кивает — мол, пивовар постарался! — а потом смеётся, грубо, но заразительно;
а еще с нами пили Рольф Ингварсон, чьё тело мы сожгли в Девятом Замке, и чей меч я передам в наследное владение своему сыну как бесценное сокровище; Фрор из Эмблагарда, что мечтал убить дракона, но не смог убить дракона в себе; Унтах, сын Орвен, искупивший на стенах Норгарда какой-то страшный грех перед своим народом; трое Лундар, прекрасные, как сам лес; и ещё многие, многие другие, которых я не видел, но которых видели мои друзья;
и, на многие мили к северу отсюда, печально скрипел на ветру могучий витязь, отец дубов Старый Балин…
Такими я хотел их помнить. Тех, кто ныне — не с нами. Смеющимися. Улыбающимися.
Счастливыми.
И тут раздался стук в двери.
— У нас гости, — заметила Митрун не без ехидства.
* * *
Надобно сказать, что это был последний день месяца, который сиды называют Луна Золотого Листа, а люди Севера — Ольвар, Пивной, и это десятый месяц года. Сэмхен, так называется праздник, который начинается в этот день, и хотя дверги его не отмечают, всё же девушки собираются на посиделки, чтобы гадать на ночь, и не только на женихов.
Митрун от нечего делать тоже отправилась к подружкам.
— У Снорри гости, — объяснила она, — и нет у меня желания прислуживать им за столом.
— А что за гости? — посыпались расспросы. — Красивые, молодые, богатые, знатные?
— Да, конечно, молодые, богатые, знатные… но не хотела бы я оказаться невестой кого-то из них, и вам не советую, ведь у них в глазах живёт кровавая ночь.
Подружки затихли — они поверили Митрун, муж которой ходил в Девятый Замок.
— Расскажи нам, как Снорри путешествовал на запад! — попросила молоденькая Сигюн дочь Валле. — Такая тёмная ночь, как раз для страшных сказаний!
И Митрун стала рассказывать, как говорил ей Снорри, добавляя от себя то, о чем он умолчал. Но когда перевалило за полночь, и повесть подошла к концу, сильный удар обрушился на крышу дома, ветви заскребли по окну, в птичнике закричали гуси. И раздался стук.
— Не открывайте! — заверещали девушки. — Верно, это Глумхарр Чёрный Волк!
Но из-за дверей донёсся голос:
— Митрун, жена Снорри, выйди сюда, ибо ты позвала нас этой ночью!
Митрун не могла не подчиниться, и не дрожала от страха. Её уговаривали не выходить, но гордая дочь законоведа отмахнулась. Сама виновата, что уж теперь бояться.
На дворе стояли кони, мертвенно-серые и чёрные, и безмолвствовали их седоки в рваных плащах и ржавых кольчугах. Один нёс на плече белого кречета, а в руке держал копьё, на голове его сверкала корона, инкрустированная звёздами. Но не он подошёл к Митрун.