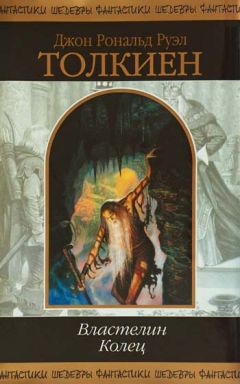Паства умолкла, как по команде, замерев в полупорнографических позах своего благочестивого исступления.
Сильвия Питтстон спустилась с кафедры и прикоснулась к его голове. Вопли мужчины затихли, едва ее пальцы — бледные сильные пальцы, чистые, ласковые — зарылись ему в волосы. Он тупо уставился на нее.
— Кто был с тобой во грехе? — спросила она, глядя ему прямо в глаза. В ее глазах, нежных, глубоких, холодных, можно было утонуть.
— Не… Нечистый.
— Имя которому?
— Сатана. — Сдавленный тягучий всхлип.
— Готов ты отречься?
С жаром:
— Да! Да! О Иисус Спаситель!
Она подняла его голову; он смотрел на нее пустым сияющим взором фанатика.
— Если сейчас он войдет в эту дверь… — она ткнула пальцем в полумрак притвора, где стоял стрелок, — готов ты бросить слова отречения ему в лицо?
— Клянусь именем матери!
— Ты веруешь в вечную любовь Иисуса?
Он разрыдался.
— Палку мне в задницу, если не верю…
— Он прощает тебе это, Джонсон.
— Хвала Господу, — выдавил Джонсон сквозь слезы.
— Я знаю, что Он прощает тебя, как знаю и то, что упорствующих во грехе изгоняет Он из чертогов своих в место пылающей тьмы за пределами Крайнего мира.
— Хвала Господу, — торжественно взвыла паства.
— Как знаю и то, что этот Нечистый, этот Сатана, Повелитель мух и ползучих гадов, будет низвергнут и сокрушен… Если ты, Джонсон, узришь его, ты раздавишь его?
— Да, и хвала Господу! — Джонсон плакал. — Раздавлю гада двумя ногами!
— Если вы, братья и сестры, узрите его, вы его одолеете?
— Да-а-а-а…
— Если завтра он встретится вам на улице?
— Хвала Господу…
Стрелку стало не по себе. Отступив к дверям, он вышел на улицу и направился обратно в город. В воздухе явственно ощущался запах пустыни. Уже скоро он снова отправится в путь.
Уже совсем скоро.
Но не теперь.
Снова в постели.
— Она не примет тебя, — сказала Элли, и ее голос звучал испуганно. — Она вообще никого не принимает. Только по воскресеньям выходит, чтобы до смерти всех напугать.
— И давно она здесь?
— Лет двенадцать. А может, два года. Странные вещи творятся со временем. Да ты и сам знаешь. Давай лучше не будем о ней говорить.
— Откуда она пришла? С какой стороны?
— Я не знаю.
Лжет.
— Элли?
— Я не знаю!
— Элли?
— Ну хорошо! Хорошо! Она пришла от поселенцев! Из пустыни!
— Я так и думал. — Он немного расслабился. Иными словами, с юго-востока. Оттуда, куда направляется он. По невидимой дороге, что иногда отражается в небе. Он почему-то не сомневался, что проповедница пришла не от поселенцев и даже не от пустыни. Она пришла из какого-то места, которое там, за пустыней. Но как? Путь-то явно не близкий. Может быть, на какой-нибудь древней машине? Из тех, что еще работают? Может, на поезде? — А где она живет?
Элли понизила голос:
— Если я скажу, мы займемся любовью?
— Мы в любом случае займемся любовью. Но мне надо знать.
Она вздохнула. Ветхий, иссохший звук — словно шелест пожелтевших страниц.
— У нее дом на пригорке за церковью. Такая хибарка. Когда-то… когда-то там жил священник, настоящий священник. Пока не покинул нас. Ну что? Теперь ты доволен?
— Нет. Еще нет.
И он навалился на нее.
Стрелок знал, что это последний день.
Небо, уродливое, багровое, как свежий синяк, окрасилось зловещим отблеском первых лучей зари. Элли ходила по комнате, как неприкаянный призрак. Зажигала лампы, приглядывала за кукурузными лепешками, скворчащими на сковороде. После того как она рассказала стрелку все, что ему было нужно узнать, он отлюбил ее с утроенным усердием. Она почувствовала приближение конца и дала ему больше, чем давала кому-либо прежде. Она отдавалась ему с безысходным отчаянием, словно пытаясь предотвратить наступление рассвета; с неуемной энергией шестнадцатилетней. А утром она была бледной. В преддверии очередной менопаузы.
Молча она подала ему завтрак. Он ел быстро, глотал, почти не жуя, и запивал каждый кусок обжигающим кофе. Элли встала у двери и невидящим взором уставилась в утренний свет, на безмолвные легионы медлительных облаков.
— Сегодня, кажется, будет пыльная буря.
— Неудивительно.
— А ты вообще хоть чему-нибудь удивляешься? Хотя бы иногда? — спросила она с горькой иронией и повернулась к нему в то мгновение, когда он уже взялся за шляпу. Нахлобучив шляпу на голову, он направился к выходу.
— Иногда удивляюсь, — бросил он ей на ходу.
Он увидит ее живой еще только раз.
Когда он добрался до хижины Сильвии Питтстон, ветер стих. Весь мир словно замер в ожидании. Стрелок уже прожил достаточно в этом пустынном краю и знал, что чем дольше затишье, тем сильнее будет буря, когда поднимется ветер. Неестественный блеклый свет завис над землей.
На двери обветшалого, покосившегося домика был прибит большой деревянный крест. Стрелок постучал. Подождал. Нет ответа. Он опять постучал. И опять никакого ответа. Он чуть отступил и ударил по двери ногой. Небольшая щеколда внутри соскочила. Дверь распахнулась, ударившись о неровные доски стены и вспугнув крыс, которые с писком бросились в разные стороны. Сильвия Питтстон сидела в прихожей, в громадном кресле-качалке из темного дерева, и спокойно смотрела на стрелка своими большими темными глазами. Предгрозовое сияние дня легло ей на щеки пугающими полутонами. Она куталась в шаль. Кресло-качалка тихонько поскрипывало.
Они смотрели друг на друга долгое мгновение, выпавшее из времени.
— Тебе никогда его не поймать, — проговорила она. — Ты идешь путем зла.
— Он приходил к тебе, — сказал стрелок.
— И возлежал со мной. Он говорил со мной на Наречии. Высоким Слогом. Он…
— Он тебя поимел. И в прямом, и в переносном смысле.
Она даже не поморщилась.
— Ты идешь путем зла, стрелок. Ты стоишь в тени. Вчера вечером ты тоже стоял в тени, под сенью священного места. Ты думал, что я тебя не увижу?
— Почему он исцелил этого травоеда?
— Он — ангел Господень. Он так сказал.
— Надеюсь, он хоть улыбался, когда это говорил.
Она ощерилась, безотчетно подражая оскалу смерти.
— Он говорил мне, что ты придешь следом за ним. Он сказал мне, что делать. Он сказал, ты — Антихрист.
Стрелок покачал головой.
— Он этого не говорил.
Она лениво улыбнулась.
— Он сказал, ты захочешь со мной переспать. Это правда?