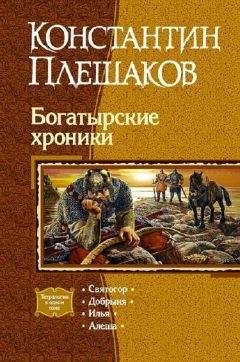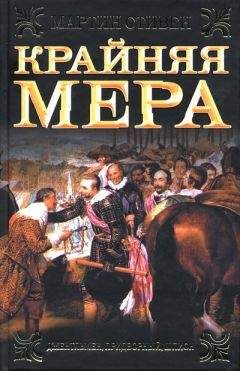Добрался до дороги, где мне тогда отряд княжеский, разбойничков догонявший, встретился, и дальше через лес поехал.
Трудно на коне по прямой ехать, еще трудней, чем пешему. Но еду. Еду и еду. Деревни какие-то бессмысленные да леса, и знаков никаких нет. Но Упирь не спрашиваю: злится Упирь на глупость. А, чувствую, есть тут моя вина какая-то. Долго ехал, пока в Ладогу-озеро не уперся. Плюнул со злости. Нет дальше пути ни пешего, ни конного. Челн долбить, что ли? Есть и острова на Ладоге-озере, а может, в воде разгадка меня ждет? Хожу, как кот вокруг сметаны, по кромке воды. Челн долбить — так какой же челн нужен, чтобы с конем Ладогу переехать? А без коня — на что я за Ладогой годен и что с конем моим станется, покуда я скитаться буду?
Понял: зимы надо ждать, покуда лед прочный станет. А уж осень была, так что месяца два мне перебиться оставалось. Покуда к морю Варяжскому съездил, я к тому времени уж приспособился с морями говорить. В каждом живет матерь морская, норовистая, и нет правил никаких постоянных, как подходить к ней.
Вышел на моря берег, Силу напряг и спрашиваю:
— Ответь мне, матерь морская, отчего не открывается мне загадка, живу которой ради? Отчего ягиные косточки дорогу мне преграждают?
Молчит матерь морская, но выбрасывают мне волны на берег игрушку детскую — куклу грубую, деревянную. Не разгадал я загадки, но куклу с собой взял и обратно поехал.
Стал лед на Ладоге-озере, поднабрал я корма для коня и поехал осторожно.
Ох, Ладога-озеро, берегов не видно, одна пустыня белая, тоскливая. Где лед прозрачный — там видно, как водяной со дна пузыри тонкие пускает. И нет нигде ответа. Но екнуло вдруг мое сердце, потому что точно на север остров обозначился. Понял я: недаром по льду спотыкался.
И точно — на берегу сруб стоит грубый. На пороге женщина, годов сорока. Кланяется мне в пояс:
— Здравствуй, Святогор. И тебе приют будет, и коню твоему пропитание, усталому.
— Здравствуй, — говорю. — Силу на тебе чувствую. А уважаю я Силу. Ты, видно, много обо мне уж знаешь, потому что велика Сила твоя, а я по дороге не заслонялся. Знаешь, зачем я приехал.
— Да в дом зайди, — говорит, — продрог.
Сидим. Собрала она на стол. Налила щей, миску мне протянула, а потом дрогнула у нее рука, и разбилась миска, и новую мне налила, и извинилась. Похлебка пустая, травяная, да горячая, и то дело. Но странно мне показалось, что миска у нее из рук прыгнула.
— Рада, — говорит, — зовут меня.
— Рада! — говорю. — Не поленица ли ты, девица-богатырь, что всех удивляла, а потом скрылась куда-то?
Кивнула: — я. Потом помолчала; спрашивает:
— Как там Микула-то? Заслоняется он от меня, и ничего не знаю о нем.
А зол был я на Микулу.
— А что ему делается, — говорю. — Над кашей хрюкает себе, как свинья. А коли сердечный интерес у тебя к нему был, так попусту ты затворилась: не стоит он того.
Улыбнулась Рада тенью и сказала тихо:
— Ты, Святогор, так без интереса сердечного и провекуешь, так что не суди о том, чего не знаешь. Много я горя от Микулы видала, а ты от него, поди, кроме затрещин, и не видал дурного ничего?
— Видал, — говорю, — я разное от Микулы-богатыря твоего. Змеям меня ядовитым кидал дважды. И другое разное было.
— Так тебе ж змеи подружки. А Микулу не суди — я и то не сужу.
— Ладно, — говорю, — за то, что покормила, спасибо, а теперь скажи: зря я приехал или нет?
Пожала плечами:
— Что спрашивать будешь? О Кащее не знаю ничего верного, и никто из смертных не знает. Подбивала и я Микулу на Кащея идти. Он не хотел, а я знания искала — и не нашла.
— Пусть так, — говорю. — Но чего ягиные-то косточки на пути мне стали?
Вздохнула она:
— Людей не любишь.
Возмутился я:
— Не затем я на свет родился, чтоб людей любить!
Плечами пожимает:
— Значит, вовсе попусту родился, потому что не откроется тебе дорога к Кащею. Вот и мать морская куклу тебе выслала, а кукла — любовь детская, простая.
Скрипнул я зубами:
— Скажи, как людей полюбить. Все сделаю.
— Всему, Святогор, научить можно, а этому нельзя. Вот ягу любил ты да змеек своих. А потом замерзла любовь твоя.
— Спасибо за ответ, — говорю. — Верю тебе. Твоя правда: нельзя научить тому. Сам буду жить. Глянем, что выйдет. А сейчас поехал я. Не люблю я Микулу твоего, и противен тебе я оттого.
— Спорить не стану, — говорит. — Но вот тебе подарок мой, — и дает что-то, в тряпицу завернутое. — Поклянись, что не развернешь, покуда ягиные косточки не сгниют. Это тебе на Кащея — не разгадочка, но догадочка.
Вздохнул я.
— Клянусь, — сказал.
— Верю слову твоему, — говорит. И смотрит на меня пристально. — Ступай, Святогор. Потом поймешь, по-чему я миску первую-то разбила.
— Яд то был? — спрашиваю.
— Яд, — отвечает. — На горе свое не дала тебе его Не спрашивай, почему дать хотела и передумала почему. Все поймешь со временем и, что делать надо будет, смекнешь.
Покрутил я головой и вон пошел. Обратной дорогой не поехал, а на север дальше двинул, потому что ближе там земля была.
Выкинул я из головы Радину загадку про яд и про тряпицу ее старался не думать. Поверил я ей и решил людей полюбить.
Бунтовало сердце мое гордое, и понимал я, что смирить его надо. В тех местах, куда я выехал, людей уж не было, почитай, и проехал я на юг, до первой деревни, на реке Свирь стоящей. Невелика деревня, и до другой — три дня пути. Слез с коня за околицей и принялся избу себе ставить маленькую. Пять дней не подходили ко мне люди: боялись. Потом пошли всей деревней, чтоб не страшно было, и говорят: кто ты и зачем избу себе ставишь?
— Ведун я, — говорю, — и с вами время какое-то по живу.
— Богатырь ты, — говорят, — а не ведун.
— Так вам что — грязно от богатыря будет?
— Странно нам и боязно. Может, князь на тебя в гневе?
А меня зло душит на трусливых людишек, но говорю спокойно:
— Хотите, в деревню вашу князь придет со мной говорить ласково?
Пошептались они и просят:
— Уходи от нас лучше. Бери девок, каких хочешь только уходи.
Чуть с кулаками я на них не пошел. Но смирял себя. Говорю:
— Не гоните, люди. И богатырю время приходит угла своего искать.
Поняли, что не отступлюсь, и в помощники мужиков предложили. Отмахнулся я: сам дом поставлю.
И поставил избу, и стал жить. Но не идут ко мне люди, маются и умирают, знаю. Сам стал по дворам ходить, где болезни были. Молча вхожу, на болящего гляну, травы заварю и, как пить, скажу.
Долго так ходил. Год целый. И целый год не глядели на меня люди, но уж знали, что Святогор среди них живет, и травам верили. И обходил я так всю округу, и нюх у меня на болезнь тяжелую развился, сразу знаю, что за болезнь и где человек мучается. Так за три дня пути знал. Но не велика доблесть — места пустынные, Сильных нет, поэтому ничто не мешало мне болезни вынюхивать.