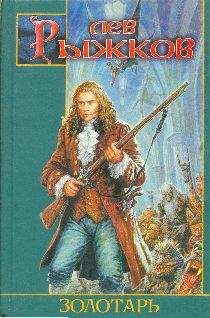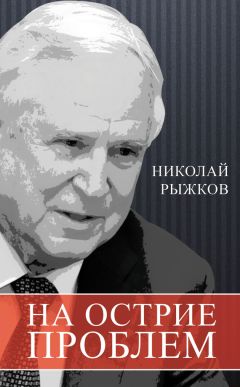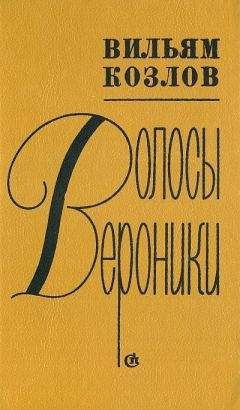Испытывал ли ты, Леопольд, когда-нибудь клаустрофобию, боязнь закрытых помещений? Если нет, остается только позавидовать тебе, потому что это ощущение, поверь, не из приятных. Представь себе, что ты находишься внутри гигантского желудка, чьи скользкие стены приходят в движение, испуская пищеварительные соки, – вот что мне казалось, и не хотел бы я испытать это чувство заново. К горлу моему подкатила тошнотворная волна давящего изнутри ужаса. Я бросился бежать.
Меня преследовали грохочущие звуки. В комнате, где я только что сидел, стены стали обваливаться. Я мчался, не разбирая пути, как мог быстро, в ушах шумела нагнетаемая сердечным клапаном кровь.
Не знаю, сколько я бежал и как далеко сумел убежать от того зловещего места, ибо кишка коридора то и дело поворачивала из стороны в сторону. В очередном безымянном коридоре я остановился перевести дыхание, облокотись о липкую, влажную стену. С омерзением я ощутил, что пальцы мои раздавили двух мокриц поистине циклопической величины, как треснул их хрупкий панцирь, а мерзкие внутренности полезли наружу.
Вскрикнув, я отшатнулся. Как не хотелось мне тогда встретить свою гибель в этих мерзких коридорах! И, Леопольд, как захотел я тогда умчаться прочь от всех этих переходов, лестниц, замков и наследств! Больше всего на свете хотел я оказаться вновь в нашей уютной комнатке. Будь проклят тот недавний день, когда я дал вовлечь себя в это проклятое дело и очутился в этом богомерзком замке!
Я впадал в бессильную ярость, загорался бесполезным гневом. Ибо не было объекта, на котором можно было бы сосредоточить эти пламенные чувства. Не сам ли я виноват в своих нынешних злоключениях? Но зачем, опомнился я, искать виноватых, когда надо во что бы то ни стало спасать свою, пусть и никудышную, шкуру!
Беготня по коридорам немало утомила меня. Я предчувствовал, что очень скоро эта усталость свалит меня с ног. Я устал. Но лучше было не думать об этом. Стоит лишь дать волю своим слабостям – и они обезоружат тебя. Думай, Кристоф, о чем-нибудь постороннем, приятном – о той, например, дочке почтальона, что влюблена в безмозглого стряпчего из дома напротив. Теперь ты богач, можешь послать ей сватов с цветами и роскошными подношениями – и юная почтальонша будет твоей. А мерзкий стряпчий с холеными усишками – пусть предается в темноте одиноким холостяцким радостям! (Главное – не останавливаться. Идти. Куда-нибудь да выйдешь…)
Или вспомни о той булочнице, что невзначай положила глаз на смазливого студентика и угощала вечно безденежного беднягу пирожными, ароматнейшим кофеем и сладким игристым вином. А бедный студентик притворялся дурачком, невинным чистюлей, бессовестно пожирал он дармовые пирожные, а после с товарищами цинично шутил над стареющей матроной. Хотя, видит Бог, в доме у булочницы действительно было не так уж плохо: горячий чай, мягкие кресла, огонь в камине, зима за стеклами окон, мерный музыкальный бой часов…
Стоп, Кристоф! Стоп! Бой часов – это не воспоминание. Ты действительно его слышишь. Это явь!
Где-то недалеко бьют часы! Значит, там живут!…
Я напряженно прислушался. Часы били в стороне, противоположной той, куда я направлялся. Где-то сзади и чуть левее…
Быстрей, погонял я себя. Быстрей! Иначе бой закончится и ты опять потеряешься. Когда я выбежал из длинного затхлого коридора, часы почти уже стихли, но последний их удар указал мне направление – влево. Не сворачивая.
Ближайший ведущий налево коридор оказался загроможден настоящим завалом из разного рода допотопного мусора. Прибавить то обстоятельство, что все свободное пространство над этой баррикадой было затянуто густой и толстой паутиной… Никогда в жизни не полез бы я туда, если бы часы не указали мне дорогу.
Спотыкаясь, я перебрался через мусорную баррикаду. Лицо мое облепили паутинные нити. Я ощутил беготню паучьих лапок у себя на шее. С омерзением стряхнув насекомое, я пустился в путь по коридору. И путь этот был нелегок. Башмаки мои давили какую-то липкую массу, чавкали под ногами зловонные лужи. Неожиданно ушей моих достигли странные звуки, я шел по направлению к ним; долгий, монотонный стон, неописуемо долго, даже бесконечно тянущийся на одной ноте, стон, сопровождавшийся, как заметил я, прислушавшись, еле слышным лязгом железа. Я убыстрил шаги. Звуки приближались. Можно было подумать, что это музыка, но музыка очень странной, неземной гармонии. Я услышал, как к стону и лязгу примешался третий акустический компонент: кто-то играл на волынке или на подобном волынке инструменте. Чуть позже, по мере моего приближения к описанным трем звукам добавилось мелодичное, еле слышное насвистывание. Невидимая флейта плела чудный звуковой узор, звуки соединялись в необычную звуковязь – чуждую человеческому уху, колдовскую музыку, которая вдруг на полуноте стихла, дав прозвучать звукам столь же отвратительным, сколь очаровательным и волшебным было музицирование.
Сейчас я слышал мерзкое, жадное хрюканье, словно бы стадо грязных свиней жадно хлебало помои из нечистой бадьи. Стон, визг, чавк! Я замедлил шаги. Сердце в груди настороженно забилось.
Впереди меня по коридору мерцал неверный, желтоватый блик тусклого света. Я замер. А в следующее мгновение кожа моя покрылась мурашками. Ибо я услышал пение, оглушительное, монотонное, то нарастающее, то затихающее, но, даже когда оно ослабевало, перепонки мои напряженно вибрировали. Пение это не мог издавать человек, скорее это был механизм, мне неведомый. Я чувствовал, что пение это имеет надо мной какую-то странную власть: я согнулся вдвое, меня тошнило. Звук, казалось, вынимал из моего тела хрупкую душу. Я закрыл уши ладонями, до боли стиснул зубы. Сейчас, мыслилось мне, кровь потечет из моих ушей, а глаза лопнут от невыносимого напряжения.
Пение оборвалось так же внезапно, как и началось. Я же ползком, не заботясь более о чистоте своего кафтана, стал подбираться к источнику таинственного света, который, мерцая, манил к себе.
Медленно, метр за метром преодолевал я отвратительный пол коридора. Когда источник света оказался совсем уж близко, буквально в нескольких шагах от меня, опять грянуло пение: многоголосое, торжественное. Ничего похожего мне никогда не доводилось слышать. Слова этой песни также остались мне неясны. Но могу ручаться, что язык, на котором она исполнялась, был никак не немецкий и не латынь. Лишь одно знакомое слово «макабр» уловил я во всем этом, но не мог вспомнить, где я это слово встречал и что оно означает. И неожиданно меня осенило – это же имя жреца из той рукописи, что давал мне маэстро, из рукописи, которую читал я перед тем, как отправиться в это немного подзатянувшееся путешествие по замку.