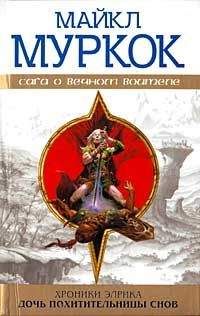Тут я перестал сдерживаться и от души врезал ему по уху, как учитель нерадивому ученику.
– Уймись, Гейнор! Ты словно читаешь монолог злодея из мелодрамы. Что бы ты ни сотворил с Рейтером, что бы ни уготовил мне, я нисколько не сомневаюсь, это будет самое мерзкое, что только ты способен изобрести.
– Поздновато уже мне льстить, ты не находишь? – проворчал он, потирая ухо, и возобновил свое хождение по кабинету. Да, он привык к грубой силе. Ни дать ни взять рассерженная обезьяна. Пытается восстановить реноме, но как это сделать, не имеет ни малейшего понятия.
Наконец к нему вернулось подобие прежнего хладнокровия.
– Наверху должны быть две кровати. Нам с тобой хватит. Даю тебе ночь на обдумывание моего предложения. Если ничего полезного не надумаешь, с радостью препровожу тебя в Дахау. Для таких, как ты, там заповедник.
И вот я лег спать в той самой комнате, где моя матушка родила меня на свет и где она умерла. Лег в наручниках, прикованный цепью к ножке кровати, а на соседней постели устроился мой злейший враг. Снились мне заснеженные просторы, по которым мчался белый заяц; он бежал к высокому мужчине, стоявшему посреди лесной поляны. Мой двойник. Его алые глаза уставились в мои, он пробормотал что-то, чего я не сумел расслышать, как ни старался. И тут меня настиг ужас жутче всякого, пережитого до сих пор. На мгновение мне почудилось, будто я вижу меч. Я закричал – и проснулся.
На меня насмешливо глядел Гейнор.
– Вижу, ты пришел в чувство, – проговорил он, усаживаясь в кровати, застеленной кружевным бельем. Выглядело это.., гм.., несолидно. Гейнор вскочил, продемонстрировав мне свое шелковое исподнее, и позвонил в колокольчик. Несколько секунд спустя появился водитель с отутюженным майорским мундиром в руках. С меня сняли наручники и вручили охапку моей одежды. Я постарался привести себя в порядок и нарочно провозился подольше, чтобы позлить Гейнора, нетерпеливо переминавшегося под дверью в единственную уцелевшую ванную комнату.
Водитель подал нам завтрак – бутерброды с сыром на тарелках, которые, очевидно, он сам и вымыл. Я заметил на полу крысиные катышки, вспомнил об обещании Гейнора отправить меня в Дахау – и съел все, что было на тарелке. Быть может, это последняя в моей жизни пристойная еда.
– Так где же наш драгоценный меч? – спросил Гейнор. Теперь он держался со мной иначе, почти как с подследственным.
Я прожевал кусок и лучезарно улыбнулся кузену.
– Понятия не имею, – я ничуть не лукавил, тем более не лгал, и оттого на сердце у меня было легко. – Похоже, он исчез по собственной воле. Отправился, быть может, вдогонку за чашей.
Гейнор оскалился, точно волк. Рука его потянулась к кобуре с пистолетом. Я расхохотался.
– Гейнор, ты стал записным паяцем! Тебе в кино сниматься надо. Видел бы тебя сейчас герр Пабст, он бы сразу предложил тебе контракт. По-твоему, я поверю, что ты и впрямь собираешься меня застрелить?
– Мне приказано обойтись без огласки, – произнес он так тихо, что я едва его расслышал. – О твоей смерти никто не должен узнать. Это единственное, кузен, что меня останавливает, иначе я вздернул бы тебя на коньке твоего дома. Ты вернешься в Заксенбург, а оттуда отправишься в настоящий лагерь, где умеют обращаться со всякой швалью и не таких, как ты, вразумляли.
С этими словами он пнул меня в пах, а затем заехал кулаком по лицу.
Я не мог ответить – ведь после умывания на меня снова надели наручники.
Водитель выволок меня из дома и зашвырнул на переднее сиденье машины.
Гейнор уселся сзади, развалился на сиденье, закурил и о чем-то задумался. Если он и поглядывал на меня, то исподтишка, так, что я этого не замечал.
Наверняка он размышлял о том, как будет оправдываться перед своими хозяевами. Они переоценили его, а он недооценил меня. Что касается меча, клинок, скорее всего, извлек из тайника герр Эль с Дианой и прочими членами Общества Белой Розы и значит, скоро мое оружие обратится против Гитлера. Что ж, моя смерть и купленное ею молчание будут не напрасны.
Смирившись с неизбежным, я решил сполна насладиться оставшимся мне временем – поспал, поел, снова задремал и проснулся, уже когда мы въезжали в ворота замка Заксенбург.
Фритци и Франци стояли посреди двора, должно быть, ожидая меня. Едва я вышел из машины, как они устремились ко мне с таким видом, будто хотели заключить в объятия.
Их явно обрадовало мое возвращение.
В следующий миг я рухнул наземь и меня принялись обрабатывать со знанием дела – ни одного лишнего удара; машина Гейнора между тем развернулась и умчалась в ночь. Потом из окна раздался чей-то голос, и меня, в полубесчувственном состоянии, отволокли в камеру, где по-прежнему находились Гелландер и Фельдман. Они уложили меня на кровать и стали смачивать водой синяки, а я лежал и стонал, в полной уверенности, что громилы переломали мне все кости.
На следующее утро пришли не за мной. Пришли за Фельдманом. Похоже, тюремщики догадались, чем меня можно пронять. Сказать по правде, я сомневался, что выдержу пытки друзей.
Когда Фельдман вернулся, у него во рту не было ни единого зуба. Сам рот представлял собой огромную кровоточащую рану, а один глаз попросту не открывался – и походило на то, что не откроется уже никогда.
– Ради всего святого, – выдавил он, скривясь от боли, – не говорите им, куда вы спрятали этот меч.
– Поверьте, я ведать не ведаю, где он находится, – проговорил я. – Но как бы я хотел, чтобы он сейчас оказался в моих руках!
Мое желание было для Фельдмана слабым утешением. Наутро его забрали снова; мы слышали, как он кричал на тюремщиков и называл их трусами. Вернули его в камеру со сломанными ребрами, перебитыми пальцами, неестественно вывернутой ногой. Дышал он с натугой, будто что-то давило ему на легкие.
Фельдман улыбнулся мне и еле слышным шепотом наказал не сдаваться. «Они нас не одолеют, – прошептал он. – Они не смогут нас победить».
Мы с Гелландером пытались, как могли, облегчить его боль, и оба плакали. А на третье утро Фельдмана забрали опять. К вечеру – на его теле не осталось ни единого живого местечка – он умер у нас на руках. Поглядев на Гелландера, я понял, что мой товарищ до смерти напуган. Мы знали, чего добиваются нацисты. И еще знали, что следующим на пытки придется идти Гелландеру.
Когда Фельдман испустил последний слабый вздох, что-то заставило меня посмотреть в дальний угол камеры. Там, отчетливо видимый и все же какой-то нематериальный, стоял мой двойник. Доппельгангер. Альбинос с моими глазами.
В первый раз я услышал, что он говорит.
– Меч, – сказал он.
Гелландер смотрел в ту же сторону, что и я, в тот самый угол, где стоял альбинос. Но когда я спросил, видел ли он что-нибудь, мой товарищ покачал головой. Мы положили тело Фельдмана на каменный пол и прочитали над ним, запинаясь, заупокойные молитвы. Потом Гелландер съежился на своей койке, а я отвернулся к стене: все равно я никак и ничем не мог ему помочь.