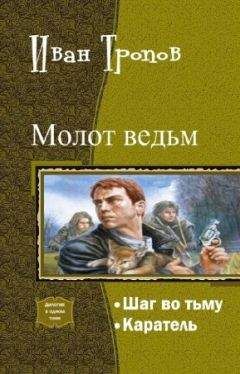— Мы подготовим что можно. А ты съезди к ней. Узнай точно. — Он прищурился на меня, будто еще что‑то хотел сказать — даже догадываюсь что, но все‑таки смолчал. Яростно потер лицо, снова поглядел на меня: — Езжай. Езжай!
Я вдруг понял, что уже минут пять сижу, тупо уставившись в черное зеркало пруда.
И наверное, у меня было такое же пустое лицо — как у Виктора там, перед кабачком… А может быть, раньше. Когда он только подъехал к дому Старика и должен был войти туда. В комнату, из которой бежал. В комнату, где осталось слишком много следов, чтобы верить в лучшее.
Я вылез из «козленка», от души хлопнув дверцей, и зашагал к дому.
— Мой господин сегодня рано… Что‑то случилось?
— Сколько времени ей понадобится, чтобы сломать человека?
Какой‑то миг мне казалось, что она сейчас вскинет брови в притворном удивлении, что не понимает, о чем я, и улыбнется своей издевательски безмятежной улыбкой…
Но она или поняла, или почувствовала.
— Все‑таки попались… — пробормотала она. — Кто‑то из тех, кто был той ночью здесь?
— Вам не идет платье Кассандры, Диана… Сколько ей понадобится времени, чтобы сломать?
— Сломать?
— Вы понимаете, о чем я!
— Не совсем. Подчинить человека на время, пока Ника рядом с ним, или же…
— Нет! Полностью! Когда ее нет рядом, а он все равно будет делать что ей нужно. Сделать слугой.
— Ах, приручить…
— Называйте как хотите! Сколько?
— Несколько дней, я думаю.
— Несколько — это сколько?
— Два‑три дня. Возможно, чуть больше. Все будет зависеть от того, как плотно Ника им займется… И от охотника, конечно.
Да, от охотника… Когда Катька была там, он был все еще под замком. Все еще держался. Десять дней.
— Значит, может быть и больше? Насколько?
— Возможно, может быть и больше… Чуть.
— Сколько он может продержаться — максимально?
— Что значит — продержаться? Я не уверена, что мы говорим об одном и том же… Если он у нее, значит, она уже смогла пробиться сквозь его защиту и подчинить его, хотя бы на время? Дальше можно вести речь только о том, какое время он еще будет продолжать огрызаться.
— Огрызаться?
Диана пожала плечами:
— Огрызаться, откатываться… Приходить в себя, когда Ника будет оставлять его в покое. Но это если достаточно сильный, чтобы сопротивляться ей… и такой же упрямый в глубине, как вы.
— Сколько?
— Неделя. Возможно, дней десять‑двенадцать. Затем огрызаться перестанет, но дрессировка на этом не кончится, он еще долго будет пропитываться привычками хозяйки, ее образом мыслей, учиться угадывать ее желания, даже когда ее нет рядом…
— Двенадцать дней?.. А если он гораздо упрямее и сильнее меня?
— Возможно, пару недель. Но…
— А шесть? — не выдержал я.
Диана улыбнулась:
— Две недели — самый крайний срок. Большее не в силах человеческих… Боюсь, вы не понимаете, что бывает с человеком, даже самым строптивым, уже через два‑три дня. Если он еще не предан хозяйке целиком, то уже на грани. Даже когда ее нет рядом. Еще не слуга, но уже не свободный человек. Еще огрызается, но как в тумане, в бреду… Если его оторвать от нее, ему потребуется время, чтобы стать тем, кем он был прежде. Может быть, месяцы… Но вы уверены, что Ника будет его приручать?
— А что же она будет с ним делать? Если не убила, но оставила у себя…
— О! Вы, видимо, плохо представляете себе, зачем он Нике… Сильных охотников если и оставляют при себе, то не превращают в слуг.
— Зачем же он ей?
— Из сильных — и умных! — опытных охотников делают глав личной охраны. Кто, как не опытный охотник, может точно предугадать, чего ждать от других охотников?.. Но для этого он должен продолжать мыслить как охотник. У него должна остаться его охотничья хватка, его личность… Как можно сохраннее. А что такое слуга? Прирученный и выдрессированный раб. Придаток хозяйки. Удобный, но растерявший большую часть своей прежней личности.
— Но если она его не сломает…
— Не приручит, — поправила Диана.
— Не приручит, — оскалился я, но повторил ее словечко. Сейчас не время упираться по пустякам. — Как же она надеется, что он станет… Он же ни за что…
— Скорее всего, Ника будет его не приручать, а привязывать.
— Привязывать?..
— Мм… В вашем образе мыслей… Его будут не ломать, но перетягивать.
Я хмыкнул.
— Я сказала что‑то смешное? — холодно спросила Диана.
— Его не переубедить.
— Я не сказала — переубедить. Я сказала — перетянуть. Не словами конечно же…
— Тогда как?
— Вот так. — Диана чуть наклонилась, и виски на миг обдало лавандовым холодком. — Пробить его защиту, залезть внутрь него, но не ломать там все подряд… Не приручать, круша все внутри, делая из матерого волка покорную шавку, а всего лишь осторожно привязать к себе… Осторожно, но крепко. Вбить в его душу всего один, но точный гарпун. Найти что‑то, что ему особенно важно, и надавить только туда. Связать это с тем, что от него нужно. И так привязать к себе.
— Важно?.. — пробормотал я.
Старик всю жизнь положил на то, чтобы отлавливать таких чертовых сук. Сюда хоть гарпун вбивай, хоть кол, а ничего у нее не выйдет… Защищать чертову суку он не станет.
— О, это бывает самое разное… Иногда даже сам человек не может сказать, что это, — улыбнулась Диана. — Возможно, какой‑то страх, засевший ещё в глубоком детстве, который всю жизнь загонял на самые задворки сознания и готов отдать все, что угодно, лишь бы этот чулан и дальше не открывали… А может быть, какая‑то иррациональная привязанность. Или стремление, дремавшее всю жизнь в глубине, а теперь ему помогут вырваться…
Я попытался представить что‑то такое рядом со Стариком и хмыкнул. Особенно про страх, растущий из детства…
— Нет…
— Что — нет?
— Он не из таких. У него железная воля. И ни черта он не боялся. Ничего и никого.
— Железная воля? И это не спасение.
Я не стал с ней спорить. К чему? Все что надо я уже выяснил…
Только черт бы побрал это знание! Старика ей не привязать, а значит, скоро она либо убьет его, либо начнет ломать. Если уже не начала…
Две недели, две недели… Они уже прошли, эти две недели.
Через месяц будет поздно. Даже если в следующее новолуние Виктор и сможет в одиночку прибить суку и вытащит Старика, это будет уже не Старик…
Уже не Старик…
— Железная воля — часто лишь стальная оправа разбитого сердца… Мог быть какой‑то тяжелый выбор, сделанный давным‑давно, но который все еще бередит душу, о котором порой жалеешь, — если выбор был такой, когда чаши весов почти уравновешены, но выбирать надо, и выбор ох как тяжел… И можно даже понимать, что выбор был правильный — рассудком, но в глубине души все равно бродит тоска по тому, от чего пришлось отказаться, чем пожертвовал… И как все, что насильно задвинуто под ковер сознания, эта тоска становится все значимее, все больнее, все желаннее — вопреки доводам разума, но у души свои законы…