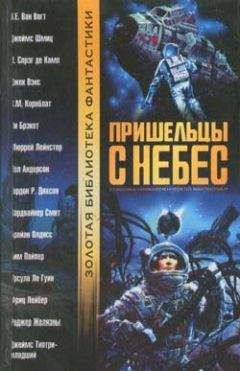К счастью, потертые летние форменные штаны и простая рубашка из беленого льна неплохо показывали себя и по такой погоде, так что от жары Косоруков страдал, но умеренно.
Солнце нещадно палило, стоя в зените, и гнедая топала по пыли настолько лениво, что казалось — того и гляди уснет и вовсе остановится. Дмитрий не пытался ее понукать, на него погода тоже действовала отупляюще. Наверное, стоило бы переждать и не тащиться в самое пекло, но не хотелось терять время, а большой разницы между жарой в темном, но душном помещении или на пропеченном солнцем, но свежем воздухе он не видел. В кабаке, конечно, имелся прохладный душистый квас — хоть залейся, но Косоруков предпочитал медленно двигаться вперед, а не заливаться на месте, ожидая у моря погоды.
Над дорогой он пока не задумывался. Она ползла строго на юг, в том же направлении располагался городок Шналь, и доставать карту не было нужды.
Чуть сильнее, чем направление и жара, беспокоили помянутые Петровым бандиты, по такой погоде как раз самое время грабить сонных путников. Но всерьез об этом Дмитрий не волновался: сдался кому-то одинокий мужчина, вооруженный до зубов и на плохой кляче. Ясно же, золота с него не поиметь, а вот свинца — можно.
Косоруков родился в столичном Павлограде на другом конце огромной империи, вырос среди тамошних туманов и болот и, честно говоря, никогда их не любил, считая климат родного города отвратительным и тяжелым. Но жизнь, как часто водится, показала всю глубину его заблуждений, когда молодого выпускника военно-морского училища отправили для прохождения службы через всю страну на Восточный флот, в город-порт Дальний вблизи губернского Рождественска. Вот там-то он и понял, что недооценивал спокойствия и уюта родного Павлограда.
Шесть лет службы на гиганте-броненосце "Князь Светлицкий", три из которых — военные, Дмитрий безуспешно пытался привыкнуть к ледяным штормам, к палящему зною и безжалостному холоду, влажному и оттого еще более лютому, чем обычно. Форменные рукавицы зимой примерзали к леерам и обшивке, а сквозь них, кажется, примерзали и руки. Летом касаться железа было еще опаснее — раскаленное на солнце, оно обжигало. Хуже было только в зимние сражения, когда жар с холодом встречались и вместо того, чтобы усмирить друг друга, терзали людей сообща.
Как выживали в таких условиях неодаренные рядовые матросы и младший командный состав — Косоруков не понимал. Даже с силой в крови это было сложно, а уж без нее…
Можно было бы посчитать насмешкой судьбы и случаем испытать это на себе, когда полтора года назад, за полгода до окончания войны, тогда еще мичман Косоруков выгорел в бою при Белом мысе и перестал быть волшебником. Но тот же самый бой стал последним и для "Князя Светлицкого" вместе со всей его оснасткой и экипажем. По всем приметам и Дмитрий должен был погибнуть в густой от холода, темной как свинец воде, ставшей для них братской могилой, но кто-то где-то решил иначе, и его спасли. Сам он не помнил, кто и как, но очнулся в госпитале в положении военнопленного.
Три месяца плена он не мог бы назвать счастливым периодом своей жизни, но и зла на противника не держал, даже в какой-то мере был благодарен: спасли, выходили, да и после госпиталя обращались сносно. Кормили паршиво, так что восстанавливался после контузии и выгорания он долго и трудно, но — кормили, и не вовсе уж отбросами. Работать на шахте заставляли, но не до смерти и изнеможения, а ему отдельно повезло: когда стало ясно, что он неплохо ладит с механизмами и понимает в паровых котлах, для Косорукова нашлась работа почище, по специальности.
Потом был обмен, госпиталь уже свой, допросы военной полиции…
Окончание войны год назад Дмитрий встретил счастливо комиссованным по ранению лейтенантом с грошовой пенсией, нервно звенящей пустотой там, где когда-то плескалась сила и множеством открытых дорог. Проще говоря, мог катиться на все четыре стороны, а что он там собирался делать — никого не волновало. В родном Павлограде его никто не ждал — родители умерли, братьев-сестер не было, их квартиру в доходном доме давно заняли другие люди, особой любви к малой родине как не было, так и не возникло, — и проще оказалось остаться здесь, чем возвращаться в далекий город безнадежно ушедшей юности.
В такой ситуации засилье в губернии хорошо вооруженных банд, порой даже с волшебниками в их рядах, Косорукова совершенно не удивляло: он сам имел хорошие шансы пойти по той же дорожке и пополнить их ряды. Но выбрал другую сторону. Служба в полиции его не прельщала, а вот указ императора, разрешивший привлечь к ловле преступников всех желающих, оказался очень кстати. И Косоруков, отличный стрелок с офицерским званием, без труда получил лицензию охотника за головами.
Решение оказалось удачным, и за без малого год он заработал приятную сумму и отличную репутацию, по большей части даже не отъезжая далеко от Рождественска, где объектов для охоты тоже хватало с избытком.
Репутация и привела его сюда, на дальний конец Рождественской губернии.
Дело, по которому он ехал в Шналь, было вообще-то делом сыскной полиции, но сил той не хватало и на города, что говорить о столь глухих углах. Абы кому его не поручишь, а тут подвернулся Косоруков, которого посчитали достаточно надежным и сообразительным. Вознаграждение того стоило, и Дмитрий, которого ничто на месте не держало, легко согласился поехать.
Что до этого "дальнего конца" действительно далеко, трое суток поездом, а потом еще верхами не пойми сколько, он сообразил уже потом. Рождественская губерния не чета родной Павлоградской, раз в десять больше.
К этому тоже сложно было привыкнуть: к тому, как местные считали расстояния. На диких лесных просторах восточной части империи тысяча верст считалась небольшим расстоянием, если из конца в конец тянулась железная дорога или в двух концах имелись причальные вышки аэростатов.
Дорога оказалась накатанной и совсем не дикой. Кроме Шнали, в том направлении лежало еще без счету мелких и не очень поселений, навстречу нередко попадались другие путники, пару раз он обогнал пеших. За дорогой смотрел вполглаза, чуть взбодрившись только тогда, когда навстречу показалось пыльное облако. Приблизившись, оно обрело очертания очередного мамонта, тянущего фуру, и тут даже Зорька встрепенулась, заволновалась и задергалась. Не сразу Дмитрий сообразил, что это она пытается вздыбиться или поддать задом: брыкалась кобыла столь же лениво, как шла. Когда он осадил ее, гнедая оглянулась с явно отпечатанным на морде изумлением. Кажется, впервые в жизни ей достался наездник, который знал, как обращаться с верховыми. Жаль только, саму Зорьку никто не предупредил, что она — именно такая.
Разминувшись с мамонтом, кобыла очень быстро впала в прежнее вялое оцепенение, а чуть погодя — и ее хозяин.
Сухая дорога стелилась гладко, несмотря на неспешность кобылы. То ныряла в густой лес, тихий и наполненный запахом нагретой хвои, то поднималась на холм и вдруг выводила на открытое каменистое плато, то вброд пересекала мелкие речушки, где всадник неизменно останавливался освежиться — холодная вода бодрила.
Экономить воду в таких условиях не было никакого смысла, и Дмитрий то и дело прикладывался к фляжке. Та была теплой, но при царящей вокруг жаре казалась освежающей, а пополнять запасы можно было в деревенских колодцах по дороге или ручьях.
Пару раз Косоруков спрашивал у встречных о правильности пути. К вооруженному человеку те относились настороженно, но он был один, держался вежливо, и его в конце концов обнадеживали, что не потеряется и дорога эта прямиком идет в Шналь. Местные поминали городок со странным выражением — не то опаской, не то уважением, Дмитрий так и не разобрал. Не крестились и не бежали в страхе — и ладно.
Один раз охотник завернул в деревню, которую разглядел с пригорка чуть в стороне от дороги. Пасущиеся в отдалении мамонты уже воспринимались обычной деталью пейзажа, как и основательные дома, бревенчатые на каменных основаниях. Колодец нашелся почти в центре деревни, и до него Зорька топала по пустынной улице — то ли зной загнал всех по домам, то ли работа растащила. Напротив колодца, на скамейке в тени, сидели три пропеченных солнцем старика, шушукавшихся между собой. Дмитрий поприветствовал их, склонив голову и приподняв шляпу; жители ответили кивками, но примолкли и внимательно следили за тем, как он крутит ворот, поднимая привязанное деревянное ведро — перекошенное, потемневшее, но еще прочное и вполне способное наполнить фляги и напоить лошадь.