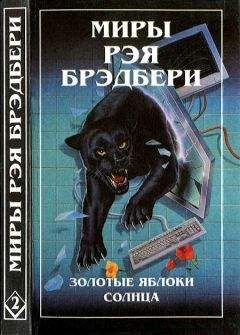Который уж день Ягда в постели лежала: то забудется, то глаза ненадолго откроет… С тех пор, как вернулся Удал — вот с той самой ночи. И в рот еды не брала, совсем никакой. Потому и несла ей Фефила из леса голубику, морошку, а еще малины последней — пестрая, вкусная вышла охапка.
Перед высоким крыльцом Фефила всегда робела — трудно было зверьку карабкаться на крыльцо. А тут как раз Мамушка шла по двору, увидала Фефилу, за шкирку ее ухватила:
— Может, твоего хоть немного поест! — и в дом понесла.
Очень этого не любила Фефила, чтобы ее таскали вот так. Фыркала она на это обычно, задними лапами воздух царапала. А тут и не охнула даже — только бы девочку увидеть скорей.
А Ягда опять в забытьи лежала. Ржаные волосы разметались, щеки маком горят. А пальцы крепко чужой амулет держали. Увидела это Мамушка, руками всплеснула:
— Такую нечисть… И надо же было — на себя! А от него-то, может, и вся напасть! — и пальцы девочкины бросилась разжимать.
Не отпускала девочка амулет. Только проснулась от Мамушкиных стараний, села на тюфячке и еще теснее к себе чужой оберег прижала. А потом подняла его, к самым глазам поднесла… А были на том амулете две неподвижных скрещенных сабли, а еще вниз свисали пять вертких ножиков, небольших — с ноготок. И вот зазвенели вдруг эти подвески-ножи. А может быть, просто руки у девочки дрогнули? А может быть, это издалека звон пришел — может, Ляс струны тронул?
А только вскочила Ягда:
— Я знаю! Я теперь знаю! Он жив!
И мимо Фефилы к двери на нетвердых ногах побрела. А вниз по крыльцу уже почти и бежала. Степунка ей нужно было увидеть. И вестью этой с ним поделиться.
После того, как Удал бессловесным вернулся, на другое же утро, прибился к их табуну Кащеев маленький конь. И Ягда его Степунком назвала, и себе его попросила. Теперь Степунок в конюшне стоял рядом с буланым, отцовым. Увидел он девочку и негромко заржал. А Ягда за шею его обхватила:
— Он жив! Слышишь? Жив!
А маленький кряжистый конь посмотрел на нее умным глазом и словно сказал: конечно, уж я-то знаю!
Вот будто бы наипростейший вопрос: для чего живут люди? Не степняки — что мы знаем о них? И не ладейные люди, хотя о них мы кое-что еще и узнаем. Нет, хорошо уже нам знакомые люди из Селища: вот они — для чего? Для Родовита и в самом деле проще этого вопроса было не отыскать. Хрупок мир, неустойчива, ускользающа мера тьмы и света, ночи и дня, тепла и мороза, суши и ливня, голода и избытка, черноты земли и белизны облаков — вот между ними человек и поставлен, чтобы меру эту хранить. А еще — для чего бы? И потому когда среди ночи вдруг разбудил его Жар и повел для разговора вдвоем на капище, к идолам Перуна и Мокоши, быстрым шагом повел — быстрее, чем мог Родовит, и когда по дороге снова стал про Велеса говорить… Что же, подумал на это князь, а ведь Жар тоже прав: если между землею и небом стоит человек — значит, и между Велесом и Перуном. Значит, Велеса тоже нельзя забывать. Идол Велеса был — хороший, большой, деревянный! Он на подходе к топи стоял. И когда разливалась топь, ходили к этому идолу люди — просили Велеса воды унять. А потом свалился в топь идол, не к кому стало ходить… Да и сушь вон сколько стояла. Велесом разве детей теперь только пугали. Или болезни, немочи разные отсылали: иди, мол, к Велесу под ребро! Тяжело, надолго задумался Родовит, пока они с Жаром до капища шли.
А только когда пришли они темной ночью на капище и когда объявил ему Жар, что теперь у них Велес должен быть первым богом над всеми другими богами, а идолов Мокоши и Перуна убрать надо с капища, а еще лучше сжечь и золою новую пашню присыпать, не поверил ушам Родовит, осторожно сказал:
— Мой сын, рожденный лучшей из женщин…
А Жар будто этого только и ждал.
— Да, — сказал, — кстати! О маминой воле! Ты не забыл? Или я забыл тебе это сказать? Одним словом, отец, твой княжеский посох… ты ведь стар уже… должен мне перейти! — и не дав Родовиту опомниться: — А чтобы Ягода не осталась в обиде… Я так думаю… Я женюсь на ней, вот.
Родовит опустился на землю. Потрогал рукой росистые травы и теплу росы удивился. Еще холоднее росы была сейчас у Родовит рука.
— Сын мой! А все-таки вы с Ягодой — брат и сестра! — голос у князя дрогнул.
— Совсем ты ослаб, отец! А потому мы больше тянуть не будем! Завтра же скажешь людям о нашей помолвке! А не то…
— А не то? — эхом ответил князь.
— Идолов этих твоих подпалю, как сухую траву! — и по черной земле струйку огня гулять отпустил.
Обернулся к Перуну и Мокоши Родовит — тяжело, хмуро чернели боги, а лики их струйку земного огня отражали — будто молниями лики их передергивались.
— Надо спросить у богов, — тихо сказал Родовит.
— Я у них уже спрашивал! — хмыкнул Жар.
— Как ты смел?!
— Ладно, отец, ты устал! Отдыхай! Ночь до утра — вся твоя! — и обратно, к дому большими шагами пошел.
А что из-под ног у него во мраке выпрыгивало: может, ящерицы, лягушки, а может, и Велес нечисть свою наушничать подослал, — Жар не знал, наступил какому-то мелкому гаду на хвост, ногою покрепче прижал:
— Скажешь Велесу: завтра — моя помолвка! — а потом уже отпустил.
Слово свое Жар сдержал — лишь до утра дал отдохнуть Родовиту. А утром один из мечей вынул из сундука и стал им фигурки богов колоть — все подряд, которые в углу, возле постели Родовита стояли. Колол и приговаривал:
— Кому княжить? Мне! Кому Ягоду в жены брать? Мне! Кому княжить? Мне! Кому Ягоду в жены брать? — и так, пока всех богов в мелкую щепку не изрубил.
Закрыл лицо рукой Родовит и горько заплакал. А Ягде заплакать было никак нельзя. Потому что все невесты перед свадьбою плачут. Так уж заведено — с беззаботными своими годами прощаются. Нет, не плакала Ягда, сухими глазами на Жара смотрела. А думала про корзину, в которую Жара хотели было уже положить и вниз пустить по реке — давно, когда он родился только, — а потом спросили совета богов и корзину пустою в реку забросили.
И когда подошел к Родовиту Жар, ногами затопал: «Собирай людей! Назначай помолвку!» — Ягда знала уже, что будет делать.
Вдали от дома, вблизи от дома
Хорошо, безлунная выдалась ночь. Только вот идти приходилось на ощупь. Утя с Зайцем, пока лодку несли на себе, три раза на землю с ней падали. Лодочку эту еще Летяй, Утин отец, своими руками выдолбил. И как ни горько Уте было с ней расставаться, а Ягодке он не мог отказать — он это только недавно понял — ну вот ни в чем.