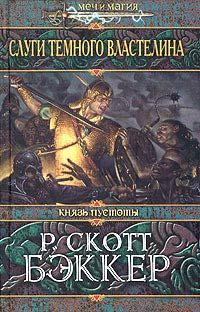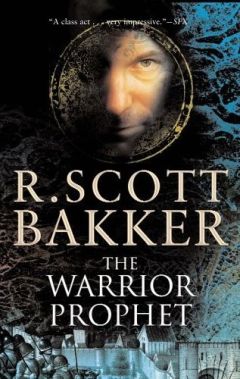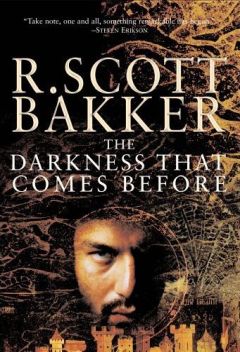Неужели его забота об Инрау, ученике, подобном сыну, заставила его забыть об этом?
Ахкеймион превосходно понимал геометрию мира Наутцеры. Некогда это был и его мир. Для Наутцеры настоящего не существовало: было лишь ужасное прошлое и угроза того, что будущее может стать таким же. Для Наутцеры настоящее ужалось до минимума, сделалось ненадежной точкой опоры для весов, на которых лежат история и судьба. Пустой формальностью.
Его можно понять. Ужасы древних войн были неописуемы. Почти все великие города Древнего Севера пали пред He-богом и его Консультом. Великая Библиотека Сауглиша была разорена. Трайсе, священную Матерь Городов, сравняли с землей. Снесли Башни Микл, Даглиаш, Кельмеол… Целые народы были преданы мечу.
Для Наутцеры этот Майтанет важен не потому, что он – шрайя, а потому, что он может принадлежать к этому миру без настоящего, миру, чьей единственной системой координат служит былая трагедия. Потому что он может оказаться зачинщиком нового Армагеддона.
«Священная война против школ? Шрайя – подручный Консульта?»
Можно ли не содрогнуться от подобных мыслей?
Ахкеймиона трясло, несмотря на то что ветер был теплый. Внизу, в проливе, вздымались волны. Темные валы тяжко накатывались, сталкивались друг с другом, вздымались к небесам, как будто сами боги сражались там.
«Инрау…» Ахкеймиону достаточно было вспомнить это имя, чтобы, пусть на миг, испытать мимолетное ощущение покоя. Он почти не ведал покоя в своей жизни. А теперь он вынужден бросить этот покой на одни весы с кошмаром. Ему придется пожертвовать Инрау, чтобы получить ответ на вопросы.
Когда Инрау впервые явился к Ахкеймиону, это был шумный, проказливый подросток, мальчишка на рассвете возмужания. Ни в его внешности, ни в его разуме не было ничего из ряда вон выходящего, и тем не менее Ахкеймион тотчас заметил в нем нечто, делавшее его непохожим на остальных. Быть может, воспоминание о Нерсее Пройасе, первом ученике, которого он полюбил. Однако в то время как Пройас возгордился, исполнился сознания того, что когда-нибудь он станет королем, Инрау остался просто… Просто Инрау.
У наставников было немало причин любить своих учеников. В первую очередь они любили их просто за то, что ученики их слушали. Однако Ахкеймион любил Инрау не как ученика. Он видел, что Инрау – хороший. Это не имело ничего общего с показной добродетелью Завета, который на самом деле марался в грязи ничуть не меньше всего остального человечества. Нет. То добро, которое Ахкеймион видел в Инрау, не имело отношения к хорошим поступкам или достойным целям: это было нечто внутреннее. У Инрау не было ни тайн, ни смутной потребности скрывать свои недостатки или выставлять себя важнее, чем он есть, во мнении прочих людей. Он был открыт, как ребенок или дурачок, и обладал той же благословенной наивностью, невинностью, говорящей скорее о мудрости, нежели о безумии.
Невинность. Если Ахкеймион о чем и забыл, так это о невинности.
Разве мог он не полюбить такого юношу? Он помнил себя, стоящего вместе с ним на этом самом месте и наблюдающего за тем, как серебристый солнечный свет вспыхивает на спинах валов.
– Солнце! – воскликнул Инрау. А когда Ахкеймион спросил, что он имеет в виду, Инрау только рассмеялся и сказал: – Разве ты сам не видишь? Разве ты не видишь солнца?
Тогда и Ахкеймион увидел: струны жидкого солнечного света, падающие на ослепительное водное пространство вдали, – невыразимая красота.
Красота. Вот что подарил ему Инрау. Он никогда не терял способности видеть прекрасное и благодаря этому всегда понимал, всегда видел насквозь и прощал многие недостатки, уродующие других людей. У Инрау прощение скорее предшествовало проступку, нежели следовало за ним. «Делай что хочешь, – говорили его глаза, – все равно ты уже прощен».
Когда Инрау решил покинуть Завет и уйти в Тысячу Храмов, Ахкеймион расстроился и в то же время испытал облегчение. Расстроился он оттого, что понимал: он теряет Инрау, лишается его благодатного общества. Облегчение же он испытывал оттого, что понимал: Завет уничтожит невинность Инрау, если юноша останется с ними. Ахкеймион не мог забыть той ночи, когда сам он впервые прикоснулся к Сердцу Сесватхи. В тот миг сын рыбака умер; зрение его удвоилось, и сам мир изменился, сделался ноздреватым, точно сыр. Вот и Инрау бы умер точно так же. Прикосновение к Сердцу Сесватхи сожгло бы его собственное сердце. Разве может такая невинность – любая невинность – пережить ужас Снов Сесватхи? Разве можно просто радоваться солнцу, когда над горизонтом, куда ни глянь, угрожающе встает тень He-бога? Жертвам Армагеддона красота заказана.
Однако Завет не терпит перебежчиков. Гнозис чересчур драгоценен, чтобы доверять его в ненадежные руки. Так что в течение всего их разговора в воздухе висела не высказанная вслух угроза Наутцеры: «Этот юноша – перебежчик, Ахкеймион. Так или иначе, он все равно должен умереть». Давно ли Кворуму стало известно, что история о том, как Инрау якобы утонул, – обман? С самого начала? Или Симае действительно его предал?
Побег Инрау Ахкеймион считал единственным подлинным свершением среди всех бесчисленных поступков, что совершил он за свою долгую жизнь. Он был уверен: это дело – единственное, безусловно благое само по себе и во всех отношениях, несмотря на то что ему пришлось обмануть свою школу ради того, чтобы все устроить. Ахкеймион защитил невинного, помог ему бежать в более безопасное место. Как можно осуждать подобный поступок?
Однако осудить можно любой поступок. Подобно тому, как любой род можно возвести к какому-нибудь давно умершему королю, в любом действии можно разглядеть зерно некой потенциальной катастрофы. Достаточно только предусмотреть все возможные последствия. Если бы Инрау попал в руки какой-то другой школы и из него вытянули бы даже те немногие тайны, которые были ему известны, то Гнозис со временем мог быть утрачен, и Завет был бы низведен до уровня бессильной и никому не известной школы. Быть может, даже уничтожен.
Правильно ли он поступил? Или просто бросил жребий?
Стоит ли дыхание хорошего человека возможности управлять Армагеддоном?
Наутцера утверждал, что нет, и Ахкеймион согласился с ним.
Сны. То, что произошло, не может произойти вновь. Мир не должен погибнуть. Даже тысяча невинных – тысяча тысяч невинных! – не стоит возможности второго Армагеддона. Ахкеймион был согласен с Наутцерой. Он предаст Инрау по той же причине, по какой всегда предают невинных – из страха.
Он облокотился на каменную балюстраду и посмотрел вниз, через бушующий пролив, пытаясь вспомнить, как это выглядело в тот солнечный день, когда они смотрели отсюда вместе с Инрау. Вспомнить не удалось.