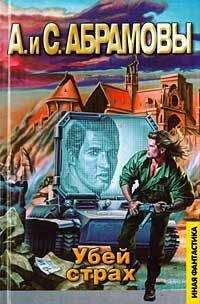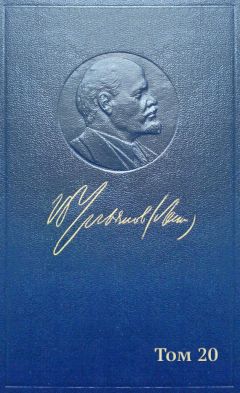— Куда мне бежать, Зрячий? Я не вру, я не знаю других дорог, кроме этой — между Вефилем и Панкарбо. Да и нет здесь других дорог!
— Почему нет? Есть. Но тебе-то они не нужны, потому что завтра ты побежишь уже не здесь.
— А где?..
— Там, где есть место иному Зрячему.
— А где есть место иному Зрячему?
Нет, всё-таки рано хоронить попа и его фантастически занудную собаку!..
— Я скажу тебе нужные слова, Бегун. Думаю, что они тебе пригодятся. Может, тебе будет дано твоим Сущим понять их тёмный смысл. Вот они… — Он зажмурился и размеренно, как молитву, проговорил: — «И каждый раз, выбегая на Путь, ты встретишь Зрячего, который есть подорожный камень, обозначающий поворот Пути. И каждый раз это будет иной Зрячий, чьё место на повороте, но не дано знать Зрячему, куда ведёт Путь от поворота, и не надо спрашивать его о том. Просто знай: где Путь — там Зрячий, где Зрячий — там Путь, но нет Пути без Зрячего, и нет Зрячего вне Пути»… — Открыл глаза, спросил просто: — Понял?
Чего ж не понять? Всё понятно. Если б он прибежал в Панкарбо и не нашёл здесь странного, как формулируют бастарос, человека, то, значит, он не был на Пути, а просто побегал для собственного развлечения. «Нет Пути без Зрячего, и нет Зрячего вне Пути»… Но он всерьёз беседует с человеком, утверждающим, что он, Чернов, куда-то заберёт Вефиль и бастарос потеряют добрых соседей только из-за того, что встретились два странных типа. А значит, получается, что спектакль идёт вовсю и Чернов — на сцене, но вот беда — он по-прежнему не знает роли. Что делать дальше?..
А что ты ещё умеешь, сам себя со злостью спросил. Только одно — бегать. Так и беги, пока видишь дорогу. А превратится она в Путь или нет — это уж как карты лягут. И не стоит мучиться самому и мучить людей, даже если они Хранители, Зрячие, кто там ещё. Судя по всему, никто не знает замысла Главного Режиссёра, никто не читал всей пьесы. Если удастся дойти до финала, будешь всё знать сам…
— Чего ж не понять, — усмехнулся Чернов. — Раз ты — здесь, раз я с тобой пью вино, то, выходит, я и не хотел, а уже побежал по своему Пути. Не я его выбираю, а он меня…
— Возможно, — охотно согласился кузнец. — Выпьем на дорожку.
Разлил по кубкам остатки вина из кувшина. Поднял кубок.
— Удачи тебе, Бегун.
Чернов поднял свой.
— И тебе счастливо оставаться… — Осушил кубок, брякнул им о столешницу. Вдруг сообразил: — Да, Зрячий, скажи-ка: часто к тебе приходят Бегуны?
Кузнец тоже поставил кубок на стол, но — аккуратно.
— Ты — первый, — только и сказал.
Вопросов больше не возникло. Пришла пора бежать.
Чернов спешил: он хотел поскорее добраться до Вефиля, потому что солнце торчало прямо над головой, а в желудке болталось пол-литра молодого вина, которое стремительно превращалось в пот. Он бежал и на бегу горько жалел себя, что совсем не подходило его цельнометаллической натуре. Он и удивлялся этому невесть с какой горы свалившемуся чувству, но всё равно жалел. Тема «жаления»: почему именно он? Ну, хорошо, людям надо помочь, город вернуть в законное ПВ, но почему не кто-нибудь другой? Бегунов в его родном ПВ — тьма, а попал в прореху именно он, и теперь должен существовать в обстоятельствах, предлагаемых Кем-то (с прописной, ясный пень, эти прописные, чувствовал Чернов, будут преследовать его до тех пор, пока он не вернётся домой, если вообще вернётся…), которые — обстоятельства то есть — он не понимает. Раз уж пошли сравнения с театром, то к месту вспомнить когда-то читанные строки: «Но я этой пьесы не знаю и роли не помню своей… Не знаю, не слышал, не помню. В глаза никогда не видал. Ну разве что в детстве когда-то подобное что-то читал».
Верно, читал. И не только в детстве. Фантастика называется. По большому литературному счёту — враньё. И для осуществления сего вранья Великий Режиссёр (или Главный Конструктор, или всё-таки Сущий — кому что нравится…) выбрал из тьмы земных бегунов его, Чернова, пнул коленом в зад, и Чернов вывалился на сцену, абсолютно не готовый к роли Бегуна (почувствуйте разницу). Более того, не желающий роль исполнять. Он даже согласился бы понаблюдать за процессом со стороны, лучше — из Сокольников, но участвовать…
Однако кто его спрашивает?..
Вино, превратившееся в пот, заливало глаза, рубаха промокла, бежать было паскудно и тяжко. Что-то с ним происходило, что-то непривычное и непонятное. Он почти терял сознание. Ему бы остановиться, упасть на обочину, отлежаться, отдышаться, но какая-то сволочная сила влекла его вперёд, заставляла еле передвигать ноги. Скажи ему сейчас кто-то, что в данный беговой момент он испытывает очередной «сладкий взрыв», он нашёл бы в себе силы рассмеяться над идиотом. Однако ведь случилось в какой-то миг: вырубился, в башке взорвалась маленькая бомба, больно не было, скорее — никак. Да и в себя пришёл тут же. Совсем пришёл, окончательно: усталость исчезла, как не появлялась, как будто взорвавшаяся бомба вывела все вздорные и вредные вещества, отравившие измотанный нагрузками организм. Вот такая случилась загогулина, как говаривал один политдеятель, и Чернов даже не сразу заметил, что пейзаж вдоль дороги изменился. А когда, в очередной раз протерев рукавом рубахи глаза, заметил-таки, то, как и предлагается в таких случаях классической литературой, встал столбом в который уж раз. И не от изумления либо оторопи, а по вполне здравой причине: туда ли он бежит, не перепутал ли дороги?
По времени он уже должен был выбежать из виноградного рая Панкарбо и войти в красно-жёлтую парилку окрестностей Вефиля. Из рая он точно выбежал, но вот куда вошёл? То, что в парилку — однозначно, но ничего общего с красными холмами, постепенно переходящими в такие красные поначалу, а потом, выше, зелёные от сочной травы пологие склоны гор, где вефильцы пасли своих коз и овец, — ничего общего с привычным глазу пейзажем он не обнаружил.
Он стоял столбом на переломе высот. Позади, если память или реальность не изменяет, — виноградники, уже невидные отсюда, лишь предполагаемые, впереди — такая же грунтовка, укатанная и утоптанная, спускающаяся вниз, в долину, в ослепительно зелёную, местами жёлтую и красную, сиреневую и оранжевую от травы, деревьев, цветов, а ещё дальше, где-то у горизонта — солнечно-синюю, бескрайнюю, неуловимо сливающуюся с тоже синим и бескрайним небом, посреди которого висел огненный шар солнца. Хоть оно-то не изменилось, шпарило огнём по-прежнему.
Но хватит метафорических соплей, вернёмся к суровой прозе: впереди у горизонта лежало море, да, да, настоящее синее море, mar по-испански, — ровное и спокойное, как земля.