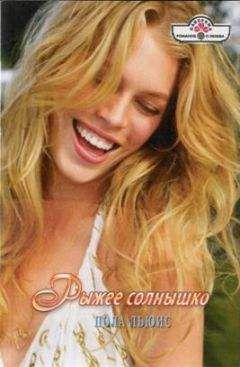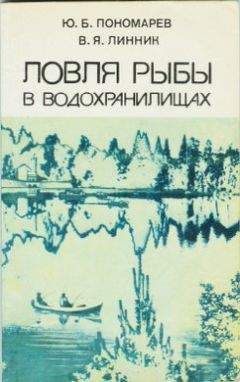И он осклабился, показав плохие зубы и дырку на месте левого клыка.
— Извини, — пробормотала я, как озноб ощущая мгновенную брезгливость. — Мне показалось, ты слеп.
И бросила золотой ему под ноги.
Пепел присвистнул. В толпе слушательниц пронесся ропот. Я уже не глядела, как он поднимает деньги, я повернулась и пошла прочь.
Вот дура! Нашла место сорить золотом. Если за тобой сейчас не увяжется какая-нибудь темная личность с вполне понятными намерениями, то ты родилась в рубашке, дорогая. Теперь надо ходить только по людным местам, но в толпу не соваться. Если украдут свирельку… Амаргин меня убьет. Я сама себе голову оторву.
Остаток пути, а он оказался немалый, я почти пробежала. У ворот мне пришлось вписаться в толпу, обтекающую фургон и груженую телегу, каким-то загадочным образом сцепившиеся на самом узком месте. Я выскочила из толпы как пробка, помятая и оглушенная, с оттоптанными ногами. Но тщательно оберегаемый кошелек остался цел.
Причал парома был пуст, а сам паром болтался где-то посередине реки и, кажется, удалялся. Я направилась к аккуратному домику, стоящему на склоне чуть в стороне от дороги. Еще не дойдя до домика, увидела лодку у дальнего конца причала. Вернее, обе лодки: и маленькую плоскодонку и лодку с парусом, которую Кукушонок вернул обратно благодаря собственной догадливости.
Едва я подошла к домику, внутри забрехала собака. На нее невнятно прикрикнули, затем дверь отворилась. Выдвинулся впечатляющих размеров торс — голый, коричневый и гладкий, словно обкатанный морем валун, а на монументальных его плечах, практически лишенных шеи, небольшим плоским камнем лежала голова. Лицо терялась в бурьяне желтовато-русых волос, так похожих на жухлую осеннюю осоку. Из бурьяна тяжелым косым ломтем свешивалась губа — будто кто-то копал червей, выворотил лопатой глинистый пласт, да так и оставил рану земную зиять мокрой, мясного цвета пульпой. И нижний ряд желтых зубов светился в глубине ее, как обнаженные корни.
Пауза. Недоумок Кайн от неожиданности поперхнулся воздухом, потом ткнул в меня трясущимся пальцем и завизжал. За его спиной на два тона выше завизжала собака. Я шарахнулась прочь — дверь с грохотом захлопнулась. Лязгнул опускающийся засов, и только тогда истерический визг перешел в скулеж и хныканье. Похоже, там, за дверью, человек и собака жаловались друг другу на утренние кошмары.
Я отошла от греха. Значит, Кукушонок в паре с отцом крутят сейчас ворот на пароме. Иначе набежали бы на крики. Ничего, найду парня попозже, еще весь день впереди.
И чего этот недоумок так меня пугается? Какая я ему навья? Навий вообще не бывает… наверно. Мало ли что дурачок мог вбить в свою бестолковую голову? Он просто глупый сумасшедший. И собака у него сумасшедшая.
По дороге к городу двигался поток пеших и конных, груженых телег, повозок и фургонов. Один раз даже прогнали отару овец. Небо стремительно накалялось, над дорогой повисла пыль. Я сошла с обочины на некошеную луговину.
Пустой луг полудугой охватывал лес, за ним, далеко-далеко виднелись гребни скалистых холмов. Под ноги мне попалась тропинка. Здесь, в стороне от гама, воздух полнился стрекотом, норовистым гудением, медно звенела высокая мертвая трава, пахло отцветшей полынью, и было необыкновенно ясно, что осень уже перешагнула порог и стоит в дверях — хоть никто еще этого не заметил.
(…я в спешке плыла к берегу, стараясь не особенно плескаться. Вроде бы только одна лошадь копытами стучит — уже лучше. Может, успею одеться и спрятаться в кустах… тьфу, дура! Рубаху на коряге вывесила как знамя, издалека светит!
На мгновение всадник появился на высоком северном берегу между деревьев. Он не гнал в галоп, но ехал быстро. Против света мне удалось заметить бегущих следом молчаливых собак. Еще блеснул маленький золоченый рог, блеснул огненно, уколов глаза.
Наконец я добралась до своей коряги, вскарабкалась на нее и кое-как натянула платье на голое тело. Рубашкой я вытерла голову. Впереди, за кустами, глухо взлаяла собака, донесся сердитый окрик. Тут я вспомнила, что моя обувка, нож и корзинка с корешками остались на склоне, в ивняке. Как раз там, где лаяла собака. Она, небось, и залаяла, обнаружив мои вещи. Встречи не избежать. Хорошо еще, что это оказался одинокий охотник, а не лесник или королевский егерь.
Затрещали кусты, зашуршал тростник — и строгая зелень начала лета вдруг расцветилась феерической вспышкой ярких красок. Из прибрежных зарослей в мелкую воду ступил гнедой конь. Масляно засветилась под солнцем золоченая сбруя. На спине гнедого небрежно, как в кресле, сидел пышноволосый молодой аристократ в фестончатой котте цвета красной охры, в кобальтово-синем плаще, с цветком белого шиповника за ухом. Он чуть повернул голову — и безошибочно обнаружил меня в пятнах света и тени, среди свисающих до самой воды ветвей. Следом за хозяином, в проторенном лошадью зеленом туннеле появились собаки и сразу же залились лаем. Юноша цыкнул через плечо — собаки примолкли.
Зазвенели удила, конь фыркнул, встряхнулся, потянулся мордой к воде. Охотник бросил поводья на луку. Он был необычно, роскошно смугл и черноволос, и он был очень, очень молод. Но все равно я чувствовала себя более чем неуверенно. Неловко поклонилась со своей коряги, нечесаные мокрые волосы свесились на лицо.
— Доброго дня вашей милости.
— Ке аранья… — охотник неожиданно улыбнулся, белые зубы полыхнули как зарница, — Аранья, араньика. Ола, айре, — подмигнул мне и перевел: — Привет!
Конь шагнул глубже, раздвигая коленями ряску и кувшинки. Юный аристократ рассматривал меня, прищурив лилово-карие глаза — таких глаз в наших краях не водится, такие глаза, как тропические цветы, открываются только в раю земном, зимы не знавшем. И холодное наше солнце не подарит бледной коже такого звонкого, насыщенного тона истинного золота, и никакая зимняя полночь не одолжит черным волосам такого буйного, пенного, гиацинтово-голубого сверкания. У меня дух зашелся, словно я увидала гору самоцветов.
— Там, — он небрежно мотнул головой в сторону склона (от этого движения сверкающие кудри взвихрились, и в глазах у меня пронеслась ослепительная рябь. Я испытала мгновенный приступ морской болезни), — Там. Предметы. Вещи. Ты иметь… владеть, аранья?
Я кивнула, не очень понимая, о чем он спрашивает. Он вдруг фыркнул:
— Фуф! Ми рохтро… моя лицо страшный, черный? Араньика вся тембла… — он вытаращил глаза, обхватил себя руками поперек груди и затрясся, изображая дрожь. Затем ткнул в меня пальцем и расхохотался, — Боять сильно? Фуф! Рарх!
Я робко улыбнулась. Вопрос о моем браконьерстве не поднимался. Этот мальчик иноземец, он, наверное, еще не знает наших законов. Он решил, что я испугалась его экзотической внешности.