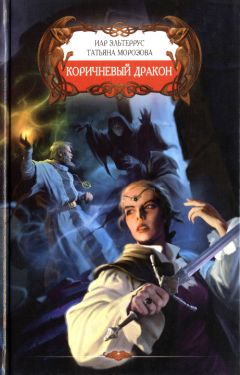Выслушав хозяина, мы решили не искушать судьбу и, скорчив постные рожи, прибывающих в истиной вере, отправились стоять службу в храм Святого Себастия.
Места нам как опоздавшим достались у выхода, так что зрелище церковного хора, песнопения, вынос раки, мы наблюдали без подробностей, как в лилипутском театре. Мы, я имею в виду себя и Амадеуса, Маршалси глазел по сторонам, беспардонно подталкивая меня плечом при виде мало-мальски приличной прихожанки.
— Смотри, смотри, какая пава стоит рядом с седоволосой развалиной. Ох, старый мухомор, не побоялся, на такой жениться.
— Может это его дочь, — возразил я ценителю женщин.
— Скажи кому другому! Он и в храме жмется к женушке, будто они под семейным одеялом! Ого! Как тебе та, во вдовьей чепце? М… м… м! Персик! А щечки! Щечки! Розовенькие! Разве такая сеньора может быть безутешной вдовой?
— Так утешь ее, — не выдержал я кобелизма идальго, но тот слушал только себя.
— А вот! Мать с дочерью! О! Одна другой краше. У одной формы и томность взгляда, у другой дерзкая худосочность и кокетство начинающей сердцеедки.
— Маршалси! Мы в храме! — воззвал я к благочестивости Маршалси, но тот был во власти чар здешних красоток.
— В храме, в храме! Тебе ли говорить маркграфский еретик! Это твои земляки выпустил кишки страдальцу Себастии, — ответил он и продолжил пускать слюни при виде всякой юбки.
Я с трудом дождался окончания службы. На нас уже грозно косились отцы почтенных семейств, злобно щурились добропорядочные мужья, обычно покладистые вдовицы осуждающе качали головами, не принимая восторгов в свой адрес, а сердобольные в миру старушки напоминали приготовившихся к броску кобр. Когда с амвона прозвучало долгожданное "Во славим дарующих благо!", а прихожане дружно поддержали "Славим! Славим! Славим!", я выволок упиравшегося Маршалси из храма и быстрехонько загнал в "Гуся и ветреницу", средней руки харчевню, расположенную на сто шагов через площадь. Пришедший позже Амадеус застал нас за распитием мадеры и перебранкой.
— Зачем вы меня увели? — ворчал Маршалси. — Вы заметили, как на меня посмотрела высокая сеньора, стоявшая рядом с военным? Не взгляд, а тавро на мою неприкаянную душу. О, эти чудные глаза!
— Маршалси вы бы видели глаза ее спутника. Бык на тореро смотрит и то ласковей.
— Плевать я хотел на задроченного лейтенанта. Попадись он мне, не раздумывая сверну ему шею…
— Более того, — перебил я идальго, не давая тому распалиться сердцем, — не люблю, когда поют хором. Тем паче вы обозвали меня еретиком, а еретику не пристало слушать псалмы.
— Да никто вас не заставлял слушать панихиду по святому!
Утихомирить Маршалси можно было только обильной трапезой. Я не поскупился истратить лишний золотой, что бы переизбыток жратвы отвлек идальго от мыслей о женском поле.
Плотно поев — грибной пирог был выше всяких похвал, мы сговорились, в качестве разрядки и общего развития, совершить легкий променад по Лектуру. Поколесив по центральным улицам, пестревшим вывесками магазинчиков и питейнь, что елка новогодними игрушками, заглянули на ратушную площадь. Сама ратуша, приземистое строение выглядела по-сиротски бедно, ни в пример расфуфыренному соседу — Собору Святой Троицы, напоминавшему свадебный торт. Подивившись выдумке провинциальных каменотесов, а заодно и бронзовой махине памятника Оффе V, которого Маршалси охарактеризовал величайшим волокитой и пьяницей прошлого, наша дружная компания отправилась по бульвару Великомучеников, на площадь Триумфальных Колонн. Не ведаю, чем блеснули полководцы на поле брани, гениальностью тактики или мастерством владения стратегии, но судя по барельефам на воздвигнутых в их честь монументах, непревзойденные таланты воителей больше проявились в мародерстве, поджогах и насилии над мирным населением.
Потолкавшись в этом Стоунхендже воинской славы и освежившись у фонтана, мы продолжили экскурсию, заглянув по пути в пару-тройку кабаков промочить глотку. Причем, в каждом последующем засиживались вдвое дольше предыдущего. Исчерпав вместимость наших желудков, пили в основном мульс, легкое вино с медом, мы свернули в городской сад, отдохнуть и поболтать.
Сладко пахло яблоками и грушами, в кругах и пентаграммах цветников красовались розы и тюльпаны, веселые струйки фонтанчиков цыркали и журчали, переливаясь нежной радугой.
— Присядем, здесь — предложил я, своим спутникам облюбовав одну из беседок, густо увитую плющом и виноградом. Обоюдное молчание я истолковал как знак полного согласия и занял одно из плетеных креслиц, вольготно в нем развалясь.
— Все-таки провинция есть провинция, — умиротворенно вздохнув, сделал вывод Маршалси, без зазрения совести общипывая гроздь общественного винограда.
— Собираетесь сюда переехать? — поинтересовался я у идальго, наблюдая за возней воробьев в пыли.
— Разве что женившись. Или в ссылку.
Живо припомнилась наша первая встреча в тополиной роще. Спящий под кустом жених! Персонаж из сказок и басен.
— На счет второго, пожалуй, соглашусь, — продолжил я разговор, — но законный брак!!! Убейте, не представляю вас главой семейства.
— Тут как выпадет, — жуя и от того невнятно произнес Маршалси. — Помните, я рассказывал о своем житие в Самборе. Не вмешайся проклятый алькальд ходить бы мне в церковь еще в худшей кампании, чем нынче.
Я пропустил подначку мимо ушей. Идальго все не мог простить мне разлуки с высокой дамочкой. Что ж, его можно понять. Во всяком случае, его тоска находила понимание в моей израненной шипами любви душе.
— А по-моему жениться не следует вовсе, — влез в беседу Амадеус. — Ни что так не связывает мужчину по рукам и ногам как семья.
Юноша явно перепил, и вдобавок его развезло от жары. Чтобы наш скромный бард позволил себе вмешаться в разговор!!!
— Хо! Хо! — удивленно выпучил глаза Маршалси. — Вирхофф, наш птенец пытается поделиться с нами личным опытом. Друже, — обратился он к барду, — сколько раз твое прыщавое самолюбие пострадало от капризов обладательниц прекрасных глазок, что ты столь рьяно печешься о свободе?
— Ни какого опыта не требуется. Личная свобода гораздо дороже благ союза с женщиной, пусть даже и любимой, — заявил бард.
— А как же ваши баллады-серенады? А? — подловил Амадеуса на лицемерии Маршалси.
— Преклонятся перед дамой сердца — одно, а пожертвовать свободой — другое.
Словно в пику их разговора, мимо, под ручку с галантным кавалером, прошествовала одна из тех, ради которой упомянутая бардом свобода была принесена в жертву. Не сказать, чтобы ее спутник горько убивался, рвал на себе волосы или как то по-другому переживал личную катастрофу. Наоборот! Сиял ярче начищенной медной сковороды!