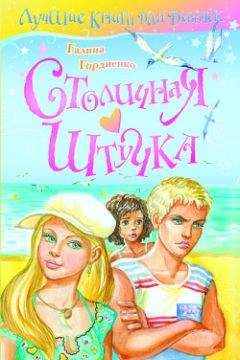Испугалась?..
Потом Эльва расспрашивала, как вёл дела мой отец, когда ездил на торги, в каких отношениях был с людьми. То же спрашивала и обо мне. Не прямо, издалека. То была хитроумная женщина. Бедный был бы её муж…
Мне постоянно слышались жалость в её голосе. Снисхождение. И лёгкое пренебрежение.
Надо сказать, злило это неимоверно.
А потом она как-то обмолвилась, что мой-де сверстник Эрвальд сын Эрпа куда как крепче стоит на ногах. Он, мол, желанный гость в их доме. Их — вероятно, её и Митрун, а не всего дома Лаунда Лысого, моего будущего тестя. Впрочем, уточнять я не стал. А она говорила, как бы между прочим, что Эрвальд владеет мясной лавкой, которая приносит неплохой доход, потому как сын Эрпа умеет работать. Кроме того, у него есть удача в делах, и побольше моей. Что тут сказать? Эрвальд хороший мясник. Лучший в Норгарде. Колбаса у него всегда вкусная. К тому же, он мой приятель. Но я не сказал бы, что он богач против меня.
А Эльва говорила:
— Эрвальд может выложить мунд в двадцать гульденов. И я видела эти деньги.
Хе! Мунд, выкуп за невесту, это старинный обычай. Самый маленький мунд — "выкуп бедняка" — один гульден. Кто не может его выплатить, тот не может содержать семью. На что такому жениться — голь плодить?.. Обычно мунд составляет от трёх до пяти гульденов. Двадцать гульденов мог бы позволить себе наш альдерман, или Этер (хотя люди говорили, что он, когда женился, поскупился и дал гульден и две марки), или Ловар Ловарсон, или Эльри, который ныне занял его место. Больше платят только знатные ярлы и хёвдинги.
Что же, сын Эрпа стал знатным человеком?..
Я молчал, угнетённый, Митрун смотрела на меня, безмолвно умоляя, а Эльва хищно щурила глаза в ласковой улыбке. Она хотела моего молчания, моего унижения, краха моей мечты… Ей мало было сказать, что я не стою руки её племянницы. Ей надо было меня раздавить.
— Говоришь, двадцать гульденов, Эльва-хозяйка? — хрипло промолвил я, медленно поднимаясь и развязывая кошёль. — Считай!
И осторожно высыпал на стол гость золотых монет.
Немало там было червонного золота нездешней чеканки.
— На гульдены тут где-то две сотни. Спроси менялу. Коль я ошибся, и тут меньше, — добавлю.
И я вышел, не прощаясь. Взгляд Эльвы Старой Девы сверлил мне спину, и кипящая ненависть обжигала кожу. Хотелось плеваться. Вывернуться наизнанку, чтобы выблевать из себя горечь и презрение, и страшную, чёрную радость, и ликование над безмолвной, глубинной яростью старухи. Клянусь, никто никогда так её не унижал.
Но у меня не было сил взглянуть в глаза Митрун. Хоть она и говорила, что ненавидит Эльву, как и прочие их родичи, однако, думается, то были лишь слова. Кроме того, я ведь нанес позорную пощёчину не старой волчице, но всему роду Лаунда Лысого. А то был великий и знатный род. Их боялись сильнее нас, Струвингов…
И только тут я понял, насколько же омерзительна и черна та грязь, что выступила из монет, которые мы ставили на чародеев. А грязь та была и во мне. И вот она вышла наружу.
Конечно, в тот вечер я мертвецки напился. И в какой-то миг показалось, что грязь уже не так смердит…
"О прошлом всех сущих…" Про Эльри
…в тот год Снорри сравнялось двадцать пять зим, тогда же умер его отец.
Холодный осенний вечер хозяин Грененхофа встретил у тлеющего камина с бутылью мухоморной браги. Пивовар сидел у очага, скучал и мучительно медленно напивался, дымя трубкой. Мир погружался в пахучий туман, где нет ничего — ни радости, ни тоски…
Утром он проводил Митрун на паром: она проведёт зиму с родителями в Аскенхольме. Обещала вернуться весной. Снорри верил. Но у неё там, дома, будет тёплый очаг и круг родичей. А он, Снорри, проведёт зиму один, вслушиваясь долгими вечерами в тоскливый вой метели за окном и жалобы теней.
Или можно по вечерам сидеть в трактире, резаться в кости и в тэфли, слушать пьяные россказни, щупать визгливых девок, участвовать в героическом мордобое. И, разумеется, пить. Чем больше и крепче, тем лучше. А что ещё делать зимой?
На самом деле Снорри было чем заняться. Отец последнее время почти не следил за хозяйством. Работы предстояло много. При одной этой мысли у Снорри бессильно опускались руки. Потому что в одиночку никак не управиться. Просить никого не хотел. А нанимать — не было денег.
Во дворе скрипнула калитка. В Норгарде их не запирали. От кого прятаться, все свои. Захотят — вышибут… Прошуршала листва. И раздался стук.
— Митрун, ты вернулась?
Нет ответа. Конечно. Какая дурацкая мысль. С чего ей возвращаться?
Снорри открыл, не спрашивая, кто там.
Увидел позднего гостя.
Задумчиво почесал в затылке.
И не слишком вежливо спросил:
— Ты кто таков? Чего надо?
* * *
Пришелец сперва не расслышал. Просто стоял на пороге, глядя сквозь Снорри.
Он был из вирфов, судя по лиственным узорам на плаще, но явно не из Норгарда. Во-первых, Снорри его не помнил. Во-вторых… У норингов был не такой взгляд. Совсем не такой. Карие глаза скитальца казались погасшими. Но на самом дне, под грудой пепла, ещё жил гейзер. Этот человек окунался туда, куда жители Норгарда и смотреть боятся…
Одежда замызганная — видно, путь его был не близок. Потертая котомка за плечами. В руке — корявая палка. На поясе — нож и топор. Каштановые волосы и борода заплетены в толстые косы — такую, слыхал Снорри, не вдруг и топором разрубишь… Лицо осунувшееся, усталое, и борода плохо скрывает морщины да шрамы. Странник улыбнулся. Ветром повеяло от той улыбки. Далёким ветром дорог, приключений и опасностей, сражений, пиров и потерь.
— Кто я? — молвил он хрипло. — Я Зверь Благородный, Ich bin eine Recke, эллендер. Герой, чужак, изгнанник. Бродяга. Добрый человек, пусти в сарай, хоть на одну ночь. А то меня ноги не держат…
Снорри молча смотрел на гостя. Грязного, загрубевшего, опасного. Похожего на сточенный камень. И понимал: вот кто истинно одинок… И вдруг собственные горести оказались просто недостойным слюнтяйством.
Снорри улыбнулся в ответ.
— В сарай не пущу, и не думай. Во-первых, там дует. Во-вторых, он держится только на честной руне, и хватит мышиного пука, чтобы он завалился. В-третьих, что ж это за мерзостный тролль, который не пригласит путника к очагу? Входи, бродяга… эй, ноги вытри! Есть овсянка с селёдкой, пирог с ежевикой и мухоморная брага.
Надо было видеть счастливые глаза гостя!
— Спасибо, добрый человек, — сказал он дрогнувшим голосом. — А то я потерял всякую надежду… Ты ведь первый в этом городе, кто откликнулся…