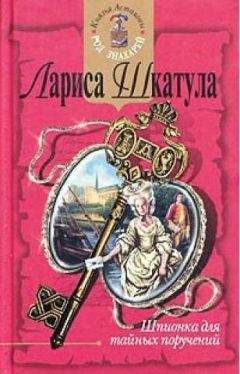— Мы рассматриваем сферу исключительно как блокировку, то есть некий привнесенный элемент, и в этом наша ошибка. Я так думаю, — задумчиво произнесла барышня, потягивая кофе. — А ведь еще в первый день Берг выдвинул предположение, которое впоследствии все, включая и его самого, воспринимали исключительно как метафору.
— Это какое же? — недоуменно приподнял бровь начальник проекта.
— Что сфера является одной из тонких оболочек, — невозмутимо ответила девушка. — А ведь это так и есть. Да, эта оболочка имеет необычную структуру и много более узкий спектр действий. Но это оболочка!
— И что же ты предлагаешь? — Берг взъерошил волосы, словно пытаясь таким образом стимулировать свой мыслительный процесс. А мы: Олаф, Ярослав, Бус и я, просто тихо сидели и смотрели на брата с сестрой.
— Работать с ней, как с любой оболочкой.
— Только более подходящими инструментами.
— И по нарастающей.
— Думаешь диссонировать?
— В крайнем случае.
— А предел?
— Определим по вибрации.
Я не понял ни слова из этого «пинг-понга», но, кажется, от меня это и не требовалось.
Исследователи вдруг развили бурную деятельность. В тот же день у управителя была заказана целая карта какого-то оборудования. Часть его вообще доставили из военного госпиталя, расположенного в Загородском конце, чуть ли не из тамошних чуланов долговременного хранения. В здании канцелярии выделили отдельную комнату по соседству с кабинетом исследователей, в которой тут же начался ремонт. Заглянув в готовящееся для меня помещение (а для кого еще?!), я увидел свинцовые плиты, которыми покрывали пол, стены и потолок. Даже стыки заливали все тем же расплавленным свинцом, и меня это очень сильно напрягло. Зачем нужны подобные меры? У меня, как человека знакомого с термином «радиация», есть только одно объяснение. Впрочем, заметив мое волнение, Берг Милорадович не поленился объяснить смысл превращения комнаты в свинцовую шкатулку. Как оказалось, свинец экранирует не только слабое излучение, но и ментальные воздействия, что крайне необходимо для продолжения исследований. Успокоив меня насчет радиации, Берг тут же не преминул порадовать известием о том, что основная стадия эксперимента начнется послезавтра.
Как он запланировал, так и получилось. Через день я вошел в свинцовую комнату, где меня раздели, уложили на узкий топчан с подозрительным отверстием, аккурат под моей пятой точкой, и ввели в руку иглу капельницы. В ту же минуту комнату покинули все исследователи, кроме Буса и Хельги. Я увидел, как захлопнулась мощная дверь, отрезая нас от остального мира, и на меня вдруг накатило ощущение легкой паники. Это притом что я никогда в жизни не страдал клаустрофобией! В груди поселилось предощущение какой-то большой гадости. Такое со мной уже бывало, и ни разу эта сигнализация не подвела. Только однажды предупреждение оказалось бесполезным, но, наверное, только оттого, что изменить было уже ничего нельзя. Тогда меня скрутило так, что я полчаса отдышаться не мог, а на следующий день сатанисты вырвали мне сердце на их идиотском алтаре. Ну, блин, и мысли бродят у меня в черепушке! Я постарался успокоиться и прислушаться к тому, что мне говорит Хельга. Хорошо, что здесь именно она, если бы вместо нее был кто-то другой, тот же Берг, например, я бы вряд ли так легко успокоился. А с ее ладошкой на лбу это, оказывается, проще простого. Вдох, счет до шести, задержка дыхания, до шести, выдох, до шести, стоп, до трех, вдох, до шести, задержка, шесть, выдох…
Дальнейшее мое участие в процессе свелось к выполнению указаний по медитации, во время которой вокруг меня постоянно вились Хельга и Бус, контролируя, следя и поначалу, пока я еще не ушел, удерживая от сна. Это было время их сладкой мести, а для меня оно превратилось в четверо суток ада. Девяносто шесть часов непрестанной медитации под капельницей, на утке. Никакой еды, никакой смены положения тела, никакого туалета и никакого сна! Первые три часа я еще испытывал неудобство, потом, все больше уходя в глухой транс, я перестал ощущать собственное тело, на девятом часу абсолютной тишины и пустоты мне стало казаться, что меня нет. Я не знаю, сколько прошло времени, когда мой разум взвыл, пытаясь вернуться к нормальному существованию, но только усилием воли мне удавалось удерживаться от выхода из транса. Вечность непрерывного контроля, а потом сфера перешла в режим мерцания, то и дело одаривая фантомными ощущениями, превратившими жуткую пустоту в калейдоскоп мучений. Осознание чудовищной ломоты во всем теле, которого я не чувствовал, желание опорожнить кишечник и мочевой пузырь, существующие в форме знания, но от этого не становящиеся легче. Осознание голода и жажды, гложущих разум не меньше, чем несуществующий для меня в трансе желудок… муки ада. У меня нет тела, но оно болит! Нет желудка, но я дохну от голода. Нет языка, но он распух от жажды. И я ничего не могу с этим поделать. Потому терплю. И это терпение тоже превратилось в пытку. Одну бесконечную, разрывающую на части даже не мозг, все существо, пытку. На девяносто седьмом часу я выпал из глухого транса и, только открыв глаза, потерял сознание от наплыва образов, ощущений, запахов и чего-то еще неописуемого, огромного, подавляющего. Меня словно бы накрыло волной. Последнее, что я слышал, было: «Ставьте кокон». А затем пришла тьма.
Глава 8
Сегодня вы проснулись от боли? Может, лучше было умереть вчера?
Надо было все-таки бежать… Расслабился, идиот… Ну как же, вокруг все такие хорошие, белые, добрые и пушистые… Добился своего, князь… Ох, больно-то ка-ак!.. Стоп. Мне больно. Значит, жив? Вроде бы да. Но лучше бы сдох. Суставы выворачивает, в живот словно лавы налили, а голова… Моя несчастная тупая черепушка, хоть бы она раскололась наконец. Блин, до чего же больно!..
Меня знобит. Тело будто ватное и трясется как холодец в руках алкоголика… Та-ак. Это мы уже проходили. Неужели меня снова куда-то закинуло? И хрен бы с ним. Ох. Надеюсь только, что и здесь найдется свой Грац. Его помощь мне бы сейчас не помешала.
Спустя несколько минут боль начала неохотно отступать, и я хоть и с трудом, но нашел в себе силы пошевелиться. Приоткрыл веки, и из груди вырвался облегченный вздох. Я в спальне флигеля. Подушки довольно высокие, так что мне прекрасно видно большую часть знакомой обстановки. В спальне темно. Вечер, утро? Неясно. Узкое окно с опущенными шторами, конторка, дверь… И кто это там решил побеспокоить мое болящее «благородие»?
— Виталий Родионович, к вам тут Меклен Францевич просятся. Пускать или как? — прогудел Лейф, придерживая входную дверь.