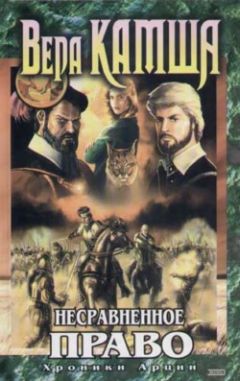— Ну, спасибо, почтенный Жан-Огюст, пошел я. Забегу к тебе как-нибудь.
— Заходи, конечно, — улыбнулся трактирщик. — Хоть ты сейчас и в гору пошел, такой свининки, как у меня, вряд ли где еще попробуешь. Ты где сейчас?
— Личный живописец графов Батаров…
— Как же тебе удалось?
— Старый граф сам разыскал меня, — скромно потупился Огурец. — Помнишь, я приводил к тебе зимой женщину. Она ведь приходила в город от принца Луи, вечная ему память.
— Вечная память, — вздохнул трактирщик, вновь наполняя кружки.
— Так вот, она приходила к Батарам, за домом которых эти проклятые «синяки» следили. Я едва успел увести бедняжку. Правду сказать, я не думал тогда, что она из резистантов… Просто побоялся, что она как кур в ощип попадет — ведь эти мерзавцы всех без разбора хватали: и детей, и женщин… Твое здоровье! О чем бишь я? Ах да… Когда принц взял город, вернулись и Батары. Луи им рассказал об услуге, которую я оказал госпоже Леопине. Принц хотел лично меня поблагодарить, но эти недобитые негодяи…
— Негодяи, — эхом повторил Жан-Огюст, подливая гостю пива.
— Проклятые годоевцы убили нашего Луи, — совершенно искренне всхлипнул мазила, едва не ставший придворным живописцем. — Какая потеря для бедной Арции! Подумать страшно, что могло бы с нами быть, если бы не Рене Эландский… Ну, мне пора.
Огурец, насвистывая, вышел из «Свиньи» и скрылся за углом. Добрый трактирщик так и не узнал, что ходил по тонкому льду и, будь он поприжимистей, а его стряпня похуже, не миновать бы ему Духова замка. К счастью для болтливого толстяка, любивший покушать и выпить на дармовщину Жюльен счел, что хозяин «Счастливой свиньи» стоит дороже тех пятнадцати аргов, которые ему платили за каждого крамольника…
Эр-Атэв. Эр-Иссар— Я выслушал тебя, пастырь хансиров. — Смуглая рука лениво потянулась к блюду невиданных в Арции фруктов. — Ты получишь все, что просишь, и даже более того.
— Творцу угодно добро в отношении его смиренных слуг. — Иоахиммиус сохранял свою всегдашнюю доброжелательность и невозмутимость, хотя милости последователя безумного Баадука, столь же непонятного, непредсказуемого и могущественного, как и сам лжепророк, не могли не смущать. Калифа же общество клирика откровенно забавляло, во всяком случае, Иоахиммиус и последовавшие за бывшим кардиналом Кантиски монахи вторую неделю сидели в Эр-Иссаре, окруженные вопиющей роскошью, назойливо отвлекающей от молитв и праведных рассуждений. Майхуб и не думал отпускать гостей, заваливая их неуместными дарами, а самого кардинала удостаивая длительными беседами. Однако на сей раз повелитель атэвов был рассеян.
Иоахиммиус за проведенные среди князей Церкви годы научился распознавать настроение собеседника по едва заметным признакам. Кардинал не сомневался — мысли калифа заняты чем-то очень важным. Майхуб коснулся пальцами кисти винограда, глядя куда-то вдаль, потом подался вперед неожиданным резким движением. Полусонные глаза вспыхнули, безупречные брови сошлись на переносице; изнеженный красавец исчез, перед Иоахиммиусом сидел вождь — сильный, умный и безжалостный.
— Раскрой свои уши шире, пастырь хансиров. — Майхуб свободно говорил по-арцийски; в сочетании с сурианской витиеватостью в речах и нарочито неправильно произносимыми именами это пугало. — Я берег эти слова для дея Арраджа, да освежит ветер его лицо, но следы Волка Иджаконы смыли волны, и я говорю тебе. Миххад не был предсказанной бедой, ибо родился глупцом, обманувшим себя самого, а глупый враг — не враг. Миххад стал кучей навоза, на которой взойдут семена истинного зла. — Калиф вскочил и принялся расхаживать по затянутому белым переливчатым шелком покою.
Воистину, как лев в клетке, подумалось Иоахиммиусу, но слова атэва были разумны. Слишком разумны.
— Смрад этой кучи, — в Атэве царила летняя жара, но слова Майхуба обдавали зимним холодом, — покроет весь север и достигнет Сура. Ты чувствуешь смрад и бежишь от него, пастырь хансиров. Не лги ни себе, ни мне. Бежишь, как бежит из города, куда прибило чумной корабль, умная мать, прижимая к груди младенца. Бежит, пока глупцы и скареды щупают ядовитые шелка и пьют смертоносное вино. Ваша победа отравлена. Дей Аррадж понимал это, его сын слишком юн. Я протяну ему руку дружбы, но я не могу выжечь заразу, затаившуюся за проливом.
— Лев Атэва проницателен, — вставил Иоахиммиус, потому что было нужно сказать хоть что-то.
— Даже слепой фаррак[40] чует, когда надвигается шарк,[41] и забивается под камни, потому что песок перестает быть защитой. Я знаю то, что я знаю. Дей Аррадж не вернется. Языком безумной старухи говорило зло. Я два дня и две ночи провел с тем, что сотворил ваш пророк.[42] Даже младший помощник презреннейшего из золотарей поймет, кого судьба привела на корабль, уходящий в бездну. То, что предсказано, свершится. Придет то, что придет, и будет новый бой. Мы должны встретить врага с наточенными клинками, но сказано, что нет оружия смертоноснее знания, а ты — хранитель его.
Сегодня я отпускаю тебя и твоих слуг. Как только милосердное солнце отвернет свой лик от дороги, десять сотен всадников и десять по десять сотен черных рабов выйдут из Желтых ворот с караваном, в середине которого пойдут двадцать верблюдов, нагруженных золотом. Если рабы умрут, их сменят другие, но дом твоего пророка будет построен. Пока в нем живет знание, он неприкосновенен — никто не войдет в него без разрешения твоего или же того, кого ты изберешь преемником.
— Благодарю повелителя атэвов, — наклонил голову кардинал, — но Церковь требует, чтобы обитель Триединого создавали верующие в Него с радостью в сердце, а не под свист бичей. Мы не можем принять твой дар.
— Я ничего не даю вашей Церкви, пастырь хансиров, — пожал плечами Майхуб. — Мне нет дела, сколько раз в день вы возносите свои неправедные молитвы. Но я знаю, что придет время и то, что ты привез, станет костром в ночи и родником в пустыне. Ты строишь не дом своего бога, но сокровищницу, в которую не войдет никто без твоего ведома. И к которой не подойдет никто без моего согласия. Звездочеты сулят мне долгое царствование, а моим сыновьям и сыновьям моих сыновей удачную судьбу… Не знаю, кто из них увидит, как из семян, оброненных презренным Миххадом, взойдет и упрется в небо дерево преисподней, и, — калиф пинком отбросил подвернувшийся кальян, — страшнее и темнее бесконечных пещер Гаджары судьба тех, кто будет рубить его, чтобы его ветви не затмили солнце навеки. Мы должны передать им острый топор. Нареченный Джахим! Ты возьмешь рабов, воинов и золото. Ты уйдешь в глубь желтой пустыни Эр-Гидал, и ты построишь там крепость. Я сказал, ты выслушал.