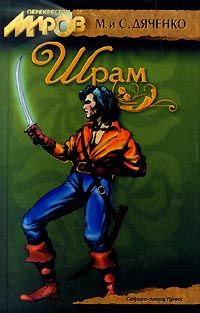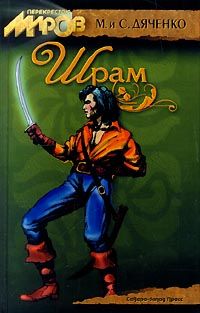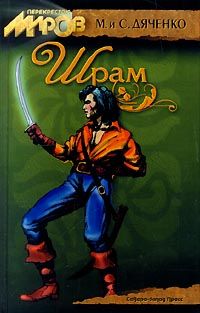Сердце Эгерта, несчастное боязливое сердце, одним судорожным движением прыгнуло вверх, к горлу, чтобы тут же провалиться вниз, к желудку. Он скорчился на сидении и плотно зажмурил глаза.
Дилижанс качнулся и стал. Быстро и умоляюще забормотал возница, потом вскрикнул и замолчал. Дверцу дилижанса рванули снаружи:
— Открывай!
Эгерта тряхнули за плечи:
— Молодой человек…
Он через силу открыл глаза и увидел над собой бледное лицо с огромными, часто моргающими глазами.
— Молодой человек… — прошептала девушка. — Скажите, что вы мой муж… Пожалуйста… Может быть…
И, повинуясь инстинкту слабого, который ищет защиты у сильного, она схватила Эгерта за руку — так утопающий хватается за трухлявое бревно. Взгляд её полон был такой мольбы, такой истовой просьбы о помощи, что Эгерту стало горячо, как на раскалённой сковородке. Пальцы его зашарили на боку в поисках шпаги — но едва коснувшись эфеса, отдёрнулись, будто обжегшись.
— Молодой человек…
Эгерт отвёл глаза.
Дверцу дёрнули снова, кто-то снаружи выругался, свет в тусклом окошке закрыла чья-то тень:
— А ну, открывай!
От звука этого голоса Солля затрясло. Ужас накатывал волнами, и каждая новая волна перехлёстывала другую; холодный пот струился по спине и по бокам.
— Надо открыть, — флегматично заметил писец.
Торговец по-прежнему сжимал в кулаке куриную ногу; глаза его выкатились на самый лоб.
Писец потянулся к дверной защёлке; в этот самый момент девушка, отчаявшись найти помощи у молодого человека Эгерта, увидела вдруг тёмную пустоту под противоположным сидением.
— Минуточку, — примирительно говорил писец тем, кто ожидал снаружи, — защёлку заело, минуточку…
Одним ловким движением девушка вкатилась под скамью, и облезлая ткань, покрывающая сиденье, полностью спрятала её от взглядов снаружи.
Солль плохо помнил, что случилось потом.
Одурманенное страхом, его сознание увидело вдруг лазейку, слабую надежду на спасение. Надежда эта была на самом деле мнимой — но затуманенный мозг Эгерта не понял этого, им овладело одно-единственное, огромное, на грани безумия желание: спрятаться!
Он тащил девушку из-под сиденья, как такса тащит из норы лису. Кажется, она отбивалась; кажется, она укусила его за локоть, изворачиваясь в руках, пытаясь заползти обратно — но Солль был сильнее. Изнемогая от ужаса, он втиснулся под лавку сам, вжался в самую тёмную щель — и тут только осознал, что произошло.
Он не умер от позора только потому, что в этот самый момент распахнулась, наконец, дверца, и новая волна страха лишила Солля способности соображать. Все пассажиры были выдворены из экипажа; сквозь чёрную пелену, застилавшую ему глаза, лежащий под сидением Эгерт увидел сначала огромные кованые сапоги со шпорами, потом волосатую, упирающуюся в пол руку и, наконец, дыбом стоящую чёрную бороду с двумя горящими в ней глазами:
— Ха! И точно, вот он, птенчик!
В сознании Эгерта снова случился провал.
Кажется, он даже не сопротивлялся; его вытащили из экипажа, лошади испуганно поводили мордами, косясь на огромное дерево, лежавшее поперёк дороги и преграждавшее путь. Кучеру с оплывшим, почти закрывшимся глазом связывали руки, и он услужливо подставлял их, жалобно улыбаясь. Из багажного отделения летели узлы и корзины торговца — часть их, выпотрошенные, как заячьи тушки на базаре, валялась тут же.
Эгерта обыскали — добычей послужили лишь фамильная шпага да золочёные пуговицы на куртке. У писца отобрали кошелёк; торговец только трясся да всхлипывал, глядя, как взламываются замки на пузатых сундуках. Девушку держали за руки сразу двое; она вертела головой, переводя взгляд с одного на другого, и что-то просительно повторяла.
Разбойников было пять или шесть — Эгерт был не в состоянии запомнить ни одного лица. Закончив грабёж, они рассовали добычу по седельным сумкам и сгрудились вокруг дилижанса. Писца привязали к торговцу, возницу — к дереву, только Эгерта оставили свободным — но он и не мог бежать, ноги не служили.
Собравшись в кружок, разбойники по очереди совали руки в чью-то шапку — Эгерт с трудом сообразил, что кидают жребий. Чернобородый удовлетворённо кивнул; те двое, что держали девушку, выпустили её локти — чернобородый по-хозяйски взял её за плечо и повёл к дилижансу.
Эгерт видел её круглые глаза и дрожащие губы. Она шла, не сопротивляясь, только без устали повторяя какую-то обращённую к мучителям мольбу. Чернобородый втолкнул её в экипаж; остальные выжидательно расположились на траве. Дилижанс качнулся; заскрипели, мерно прогибаясь, рессоры, и приглушённо вскрикнул изнутри тонкий голос.
Разбойники бросали жребий ещё и ещё. Эгерт потерял счёт времени, сознание его раздвоилось: он то и дело кидался на разбойников, круша им рёбра и ломая шеи — а потом понимал внезапно, что по-прежнему сидит на земле, вцепившись скрюченными пальцами в траву и мерно раскачиваясь взад-вперёд, свободный — и связанный по рукам и ногам болезненным, воспалённым ужасом…
Потом он снова провалился, потерял память и способность соображать. По лицу его хлестали ветки — кажется, он всё-таки бежал, только ноги, как в плохом сне, отказывали и подгибались. Сильнее боли и страха мучило в те минуты желание не-быть — не быть, не рождаться, потому что кто он теперь, светлое небо, кто же он после всего этого, и какое преступление ужаснее того, что уже совершило чудовище страха, поселившееся в нём против его воли, раздирающее его изнутри…
А ещё потом наступила темнота, и всё кончилось.
Старому отшельнику, который жил в землянке у ручья, уже случалось находить в лесу людей.
Однажды трескучим зимним утром он обнаружил в чаще девочку лет четырнадцати; белая и твёрдая, как статуя, она сидела, привалившись спиной к стволу, и сжимала в руках пустую корзинку. Отшельнику так и не довелось узнать, кто она была и что привело её навстречу гибели.
В другой раз он нашёл в лесу девушку — окровавленную, покрытую синяками, одержимую бредом. Он принёс её в землянку — но на другой день пришлось похоронить и её тоже.
Третьей находкой отшельника стал мужчина.
Это был красивый и сильный молодой человек; он оказался намного выше и тяжелее самого отшельника, и потому тащить его через лес было особенно трудно. Едва переводя дыхание, старик умыл его водой из ручья — тогда найдёныш застонал и открыл глаза.
Отшельник обрадовался — по крайней мере этого не придётся хоронить! Он всплеснул руками и одобрительно замычал — с рождения лишённый дара речи, он только так и умел выражать свои чувства.