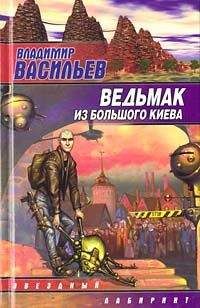— Всё? — спрашиваю, когда она умолкает.
— Мария, пожалуйста, я не просила бы, если бы…
— Я спрашиваю, всё?
Она коротко выдыхает, потом отвечает.
— Да, но…
— Теперь слушай меня, — говорю я. — Если тебе надо денег, выгони мужа взашей и найди себе нормальную работу. Дочь сдай в интернат, мать — в хоспис. Если тебе надо поныть, звони на телефон доверия в женский центр. Прекрати меня доставать. Ты мне никто.
— Она же и твоя мать тоже! — кричит Инга.
— Ты мне никто, — говорю я снова и кладу трубку. Какое-то время держу на ней руку, потом убираю.
Потом сню.
Лисица трусцой бежит вдоль оврага и видит тело. Лисица настороженно тянет носом воздух и уже знает об этом теле всё: что оно человечье, что это был самец, что лежит он тут третий день. Он сильно пахнет и может привести волков или других людей. А у лисицы совсем близко нора. Лисица хочет, чтобы тела здесь не было, и как можно скорее. Лисица зло лает на тело. Человечий самец не видит её и не слышит. Он ей никто.
Утёнок пришёл в обеденный перерыв. Выследил, когда я выбежала в кафешку под офисом пропустить стаканчик чего-нибудь, чем от меня потом не будет пахнуть. Днём я притворяюсь, будто работаю в фотоателье на ксероксе. Шеф у меня нервный.
Кафе было почти пустым, и Утёнок говорил вполголоса, не боясь быть услышанным. Я задумчиво кусала бутерброд и слушала не перебивая. Он действительно был страшно похож на утёнка. Такой маленький, косолапенький, нездорового желтоватого оттенка, с характерным носиком. И если я не ошибаюсь, он был подсадной уткой, которую подослал ко мне Младший. Не утка, а так, уточка. Утёночек. Такой смешной.
Назвался он Лаврентием Анатольевичем. Меня всю жизнь окружают люди с непроизносимыми именами.
— Почему вы думаете, что я это сделаю? — спросила я, когда кофе и бутерброд были уничтожены, а сигареты ещё надеялись выжить. Тоже смешные.
Лаврентий Анатольевич недоверчиво задвигал широким носиком.
— Простите, но Борис Ефимович мне ясно сказал…
— Вы, видимо, чего-то недопоняли. Я не выполняю подобных заказов.
— Но вы ведь даже не дослушали!
— Мне не надо дослушивать. Вы что, думаете, вы первый ко мне с этим приходите? Извините, у меня работа.
Когда я встала, его ладонь — широкая коротенькая лапка с перепонками между пальцев — перехватила меня за руку. Я вдруг увидела — почти наснила, — как перехватываю эту лапку зубами. Не сильно, не насмерть, но надёжно. Моё. Быстро облизываюсь. Утиные перья липнут к моей морде.
— Мария Владимировна, пожалуйста. Хотя бы дослушайте.
Говорит очень тихо и очень твёрдо. Не по-утиному, нет. Лениво прокручиваю планы на вечер. Ах, Ванька же должен прибежать на занятие. Ладно, перебьётся.
— В десять на конечной двадцать пятого маршрута, — говорю я ему, и он выпускает мою руку. Прикосновение остаётся в памяти на несколько секунд, потом исчезает. Уже и не помню, каким оно было.
— Спасибо, — говорит он мне в спину, но я уже на улице.
В тот же вечер мы пьём коньяк у меня на кухне. Я вижу глазами Утёнка, как у меня загажено и задымлено. Но коньяк вкусный, а Утёнок пьяный. Поэтому дымить можно без всяких зазрений совести.
— Сил уже никаких нет, заела. Я и уходить пробовал, но она же ревёт, дура. Я не могу смотреть, как она ревёт, звереть начинаю. Кажется, что сам её убью. Вот прямо на месте.
— Да, это сурово, — с пониманием киваю я. У нас настоящий мужской разговор. — Когда ревёт дура — это сурово. Так почему не убьёшь?
— Не хочу грех на душу брать, — жёстко говорит мой Утёнок и опрокидывает в горло стопарь, а я откидываюсь назад, упираясь позвоночником в подоконник, и заливисто хохочу. Утёнок смотрит на меня как заворожённый.
— Мил человек, неужели ты правда веришь, что если её убью для тебя я, на тебе не останется греха? — весело интересуюсь я. Утёнок вздрагивает.
— Как убить? При чём тут убить? Я просто хочу, чтобы она пропала. Сгинула с глаз моих, не могу я так больше…
— А куда, по-твоему, пропадают люди? Если насовсем?
— Не знаю, — говорит Утёнок, и я вижу, что он правда не знает и знать не хочет.
И его ведь вполне можно понять. Не в том даже дело, что труп, кровь, следствие, нары — а в том, что грех на душу. Даже если заказать жену киллеру. Киллер-то запросит меньше, чем он предлагает мне. Но за что он заплатит наёмнику? Всё за те же кровь, труп, следствие, а там, глядишь, и нары — всяко случается. А мне он хочет заплатить за сон. Не за мой. За свой. За свой спокойный крепкий сон. О, у них, у тех, кто уже делал и ещё сделает мне такие предложения, богатая фантазия. Достаточная, чтобы во всех деталях вообразить то, что сделает с их недругами киллер, и достаточная, чтобы поверить в Снящих. Но недостаточная, чтобы вообразить, что Снящий сделает с их недругами — там, в своём сне. Этого они не то что не хотят знать, а не могут вообразить. Поэтому они всегда выбирали и будут выбирать нас. И предлагать нам деньги, которые нам не нужны.
Ну, мне-то, может, и не нужны, но кто-то когда-то всё же сумел заплатить достаточно за убийство эрцгерцога Фердинанда. И знал ведь, кому заплатить. Уж явно не тому, кто это убийство снил.
— Ну так что, по рукам? — спросил Утёнок, с надеждой заглядывая мне в лицо косенькими глазками. Не знаю, с чего он решил, будто та же история, только многословнее изложенная, произведёт на меня большее впечатление.
— Не выйдет, — чеканю я, пуская дым в его желтоватое лицо. А нет, не желтоватое уже, белеет мужик.
— П-почему? Я что, мало даю?
— Вам Борис Ефимович, — кривлю губы при этом имени, — что про меня говорил? Что я богородица?
— Господи помилуй, — Утёнок пугливо крестится. — Да я не думал совсем…
— Это я к тому, дорогой мой Лаврентий как вас там…
— Анатольевич…
— Анатольевич, я к тому, что не могу я просто взять и наснить вам что заблагорассудится. Чтобы увидеть во сне, как сгинет ваша жена, я должна этого испугаться. Или захотеть. — Я ему вру, вовсе я этого не должна — больше нет, но он ведь не знает про супервизии. — А я не из пугливых, сразу вам говорю.
— А… захотеть… — он быстро облизывает сухие губы, глаза разгораются угольками. — Захотеть? Как захотеть? Сколько мне вам пообещать, чтобы вы захотели?
Я медленно вдыхаю и выдыхаю. Со стороны это, наверное, кажется обычным вздохом. Искушение сильное. Очень сильное. Захотеть. Всё равно чего, я не знаю, что он может мне пообещать — лишь бы захотеть.
Но лисица хочет только крови. И жить. Базисный инстинкт.
— Поцелуйте-ка меня, Лаврентий Анатольевич, — говорю я и закрываю глаза. Сижу не шевелясь, чувствую его плоские шершавые губы на лице, на губах, и царапающее, как наждак, дыхание на моей коже. Пытаюсь испугаться или захотеть. Пытаюсь; в самом деле, очень хочется. Хочется захотеть… ха… Да нет, это не желание. Это жажда.