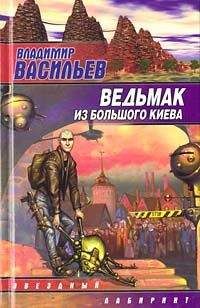Тогда Ванька снова спрашивает:
— А как поговорить с главным супервизором?
Я собираюсь ответить — не то, что он хочет услышать, а то, что принято отвечать, — но тут звонит телефон. Чёрт, и когда я уже соберусь поставить автоответчик? И вообще жуть как интересно, кто это может быть в такое время. Глухая ночь сейчас, не знаю даже точно, сколько может быть времени. Фонарь под окном уже погас.
— Ну чего? — спрашиваю я, срывая трубку.
Слышу опять этот голос. Слушаю.
Я слушаю, потом вынимаю сигарету изо рта и держу её между пальцами. Просто слушаю, ничего не говорю. Потом кладу трубку. Когда она опускается на рычаги, плачущий голос Инги ещё летит из него, далёкий, звонкий, как стекло.
— Мария Владимировна, что случилось?
Куда-то делась сигарета из пальцев. Только что тут была. Ладно, я достаю из кармана пачку, беру новую сигарету, зажигалку… нет зажигалки. Ладно, спички. Тут вон с прошлого раза ещё валяется коробок… Беру его, чиркаю. Чиркаю. Чиркаю.
Голос сквозь плотную ватную пелену:
— Мария Владимировна?
Замечаю, что чиркаю по серному боку коробка не спичкой, а сигаретой.
Смотрю Ивану Сергеевичу Розарову в глаза. Сквозь тот же слой ваты слышу свой голос:
— Главный супервизор, значит…
— Мария Владими…
— Сядь, Ваня. Сядь напротив меня. Так.
Он садится. Я широко расставляю ноги, наклоняюсь вперёд (лисица во мне даже сквозь слой ваты слышит, как падают с колена спички — проклятое эхо…), беру руки Вани в свои ладони. Странные руки у меня, большие.
— Хочешь, Ваня, мы поговорим с главным супервизором прямо сейчас? — спрашиваю я, улыбаясь, как полная дура. Может, он кивает, а может, нет, я не вижу, и просто свожу его руки вместе, прижимая ладонями друг к дружке. — Мы поговорим. Прямо сейчас. Повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да приидет царствие…
Я роняю его руки. Откидываюсь на спинку кресла. Закрываю глаза и говорю:
— Прости, мальчик. Прости. Это ничего.
— Вам нужно что-нибудь? — шепотом.
— Ага. Сбегай за сигаретами.
И он бежит. Я вижу закрытыми глазами, как он бежит, скатываясь по лестнице кубарем, влетает в ночной ларёк, тормошит дремлющую продавщицу… Я это вижу. Я это сню.
Когда я наконец смогла уснуть, мне приснилась пустыня.
Жар раскалённых камней покусывает мозоли на моих лапах. Я иду низко пригнув шею, шерсть на загривке стоит дыбом. Я хочу есть и пить. Солнце припекает затылок. Мои глаза подёрнуты мутной плёнкой, но у меня острый слух и острый нюх. Я знаю, где я, и знаю, что там, впереди. Я иду на запах, неторопливо, уверенно. Я не лисица, мне некуда спешить и не надо быть осторожной. Мою добычу не надо ловить и выслеживать. Её надо просто взять. Просто прийти и взять. Вот она, я пришла и возьму её. Огромное гниющее тело, мне одной его не одолеть, зато я смогу насытиться. Это всё, чего я хочу, — есть. Я хочу есть и пить. Тут ещё много крови, и я лакаю кровь. Камень острый, но мой язык шершавый, я не поранюсь. Кровь, потом сладкое мясо. Много-много мяса. И всё мне одной, если только не подоспеют стервятники.
Стервятники здесь — единственные враги гиены. Это будет мой страх.
И никаких лисиц больше. Никаких нор.
* * *
— Офигеть можно, — сказал Тимур. — Маш, и ты этого не замечала? Ничего не замечала?
— Я всегда говорила, что педагог из меня хреновый, — отозвалась я скучным голосом. Тимур покачал головой, а я добавила: — Ты бы на моём месте точно заметил. И сразу. Может, даже расколол бы его.
— И он не говорил тебе ничего такого?.. И ты не чувствовала это по его снам?
— Говорю же, нет, — отрезала я и с вызовом посмотрела на Младшего, молчаливо наблюдавшего за мной из своего кресла. Стилус ноутбука в его руке похож на маленький тонкий нож. — Впредь вам наука принимать самоотводы.
— Всё равно поверить не могу, — сказал Тимур. — Такой сопляк… Он стал бы очень сильным Снящим. Явно не для нашей группы.
— Может, они его так проверяли, — предположила я. — Чтобы саботажничать, много ума не надо. А вот чтобы замести следы…
— Наследил он порядочно, — говорит Младший. Странная для него фраза — отрывистая и почти грубая. Я бы ждала от него скорее чего-то вроде: «Саботажник оставил некоторое количество неопровержимых улик, неопровержимо свидетельствующих его причастность и ля-ля-ля». — Всё, что он наснил, реализовывалось в одном и том же месте: лиственный лес в радиусе пятидесяти метров от оврага. Видимо, он создавал в сознании сон-оболочку лисицы, там всюду горы лисьего помёта и несколько нор. При том, что лисицы в этом лесу не водятся.
— Серьёзно напортачил? — поинтересовался Тимур.
— Как сказать, — Младший вздохнул. — Несколько необъяснимых смертей. Пара-тройка ям, из которых, вероятно, выкапывали что-то вроде клада…
— Там, где его отродясь не было, — хмурится Тимур. Его руки скрещены на груди.
— Спецприказов не поступало, — возразил Младший. — Значит, саботажник ликвидирован вовремя. Если что, в старших группах подправят.
— Мы и сами могли бы. Вырастили тут гниду, понимаешь…
— Это не в нашей компетенции, — коротко отвечает Младший, и мы закрываем тему.
В эту супервизию мы даже ничего не сним: нас собрали только для того, чтобы оповестить об отмене тревоги. Это вторая супервизия за неделю, в прошлый раз с нами на контакт напрямую выходил старший супервизор — снимал слепок снов-оболочек. Редкая мера, крайняя — на моей памяти её никогда ещё не предпринимали. Уже тогда стало ясно, что они собрали все необходимые улики и теперь просто ищут, кому бы их пришить, как менты ищут преступника по отпечаткам пальцев. А Ванюшка-то мой немало пальчиков оставил… В тот вечер он тоже был с нами. Стеснялся и никак не хотел садиться в общий круг. Жался на краешке кресла, повернув колени в сторону двери. Это стало его первой и последней супервизией.
Интересно, старшему супервизору понравилась моя гиена?
— Подожди меня, Мария, — говорит Игнат, когда я иду к лестнице. Младший с Тимуром уже внизу, негромко переговариваются: Тимур всё никак не может поверить. Такой сопляк, говорит… и такие упорные сны.
Я жду. Игнат неторопливо одевается, глядя в тёмное окно. Берёт зонт в левую руку (на улице нет дождя, но тучи собирались с самого утра), правую молча предлагает мне. Я опираюсь ему на локоть. Мы очень-очень медленно идём вниз.
— Ты не спросила, что с ним стало.
Не спросила, да? И правда. А зачем? Я это и так знаю. Вернее, знаю, что никто не скажет мне этого наверняка. Кроме того, что мальчишка мёртв — а остальное разве важно?
— Ты ведь отдавала себе в этом отчёт?