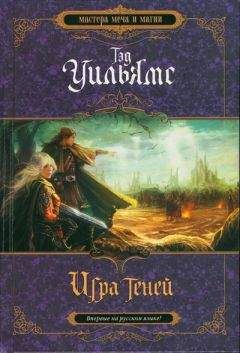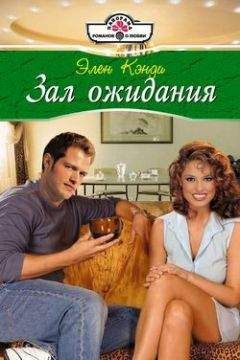По мере продвижения послеполуденного солнца к западу, когда его смутное серебро, падавшее в расщелину, стало подниматься все выше и выше по синим стенам и под конец совсем исчезло, спутников охватил более глубокий и более мучительный холод. Напряженные мышцы Саймона дрожали, как струны лютни, уши болели, несмотря на меховой воротник, юноша чувствовал, что проваливается — так же стремительно и беспомощно, как скатывался он к обнаженной пустоте пропасти, — в туманный, полный миражей сон наяву. Но вместо мрачного беспощадного холода, которого он ожидал, сон заключил его в теплые, душистые объятия.
Вокруг царило лето — как давно это было? Неважно, потому что времена года наконец вспомнили о своем естественном порядке, и упоительно горячий воздух был полон низким пчелиным жужжанием. Весенние цветы разбухли и перезрели, их окаймляла хрустящая коричневая корочка, напоминавшая о пирогах с бараниной, таившихся в духовке у Юдит. В полях под стенами Хейхолта желтела трава, начиная неотступное превращение, которое завершится осенью, когда ее соберут в ароматные золотые стога. Эти стога усеют всю землю, точно маленькие домики.
Саймон слышал сонное пение пастухов, вторящих пчелам, и блеяние их подопечных в теплых лугах. Лето! Он знал, что скоро наступит праздник… Лафманса Святого Сутрина, но сначала его любимый канун летнего солнцестояния.
Канун летнего солнцестояния, когда все менялось и принимало новые формы, когда закрытые масками друзья и переодетые враги смешиваются в затаившей дыхание темноте… когда музыка играет всю долгую бессонную ночь, когда сад украшен серебристыми лентами и смеющиеся, танцующие фигуры населяют лунные часы…
— Сеоман! — Чья-то рука осторожно трясла его за плечо. — Сеоман, ты плачешь. Проснись.
— Танцоры… маски…
— Проснись! — Его снова трясли, теперь уже сильнее. Он открыл глаза и увидел узкое лицо Джирики. Смутный свет падал под таким углом, что видны были только лоб и скулы ситхи. — Тебе, кажется, приснился страшный сон, — сказал принц, опускаясь на корточки рядом с Саймоном.
— Но… на самом деле нет. — Юноша дрожал. — Это было л-лето… Канун летнего солнцестояния.
— А! — Джирики поднял бровь, пожал плечами и достал из-под плаща — тем жестом, каким любимый дедушка достает игрушку, чтобы развлечь капризного ребенка, — блестящий предмет в деревянной рамке, покрытой искусной резьбой.
— Ты знаешь, что это такое? — спросил Джирики.
— Зе-зеркало. — Саймон не знал, о чем спрашивает ситхи. Может быть, ему известно, что Саймон уже рассматривал зеркальце в пещере?
Джирики улыбнулся.
— Да. Особое зеркало, зеркало, у которого очень долгая история. Ты знаешь, для чего может служить такая вещь? Кроме того, разумеется, чтобы бриться, как это делают мужчины.
— В-видеть вещи, которые далеко, — брякнул он и съежился в ожидании вспышки гнева, по его мнению неминуемой. Некоторое время ситхи молча смотрел на него.
— Ты слышал о Зеркале справедливого народа? — спросил он, наконец, удивленно. — О нем до сих пор упоминается в сказаниях и песнях людей запада?
Теперь у Саймона появилась возможность уклониться от правды. Но он удивил сам себя, сказав:
— Нет. Я смотрел в него, когда был в вашем охотничьем домике.
Еще удивительнее было то, что от этого признания Джирики только широко раскрыл глаза:
— И ты увидел в нем не только отражение? Еще и что-то другое?
— Я видел… я видел принцессу Мириамель, моего друга, — кивнул он и погладил голубой шарф, окутывающий его шею. — Это было похоже на сон.
Ситхи нахмурившись посмотрел в зеркало, но гнева не было в его взгляде. Скорее казалось, что он смотрит на поверхность мутного пруда, где мечется рыба, которую ему страшно хочется поймать.
— У тебя очень сильная воля, — медленно проговорил Джирики. — Сильнее, чем ты думаешь, — может быть дело в этом, а может быть тебе каким-то образом были даны другие силы… — Он бросил взгляд на зеркало через плечо Саймона и снова помолчал. — Это зеркало — очень древняя вещь, — вымолвил он спустя несколько минут. — Говорят, что это чешуйка Великого Червя.
— Что значит «червь»?
— Великий Червь, как говорится во многих сказаниях, обвивает землю. Мы, ситхи, считаем, что он окружает все миры — миры проснувшихся и грезящих, те, что были, и те, что будут… Хвост его у него во рту, так что он не имеет ни конца, ни начала.
— Червь? Вы имеете в виду дракона?
Джирики кивнул быстрым движением, как птица, клюнувшая зерно.
— Говорят также, что все драконы произошли от Великого Червя и что каждый последующий меньше предыдущих. Игьярик и Шуракаи были меньше, чем их мать Идохеби, а она, в свою очередь, была не так велика, как ее родитель Хирукато Золотой. Однажды, говорит легенда, драконы исчезнут все до одного — если уже не исчезли.
— Это б-было бы хорошо, — сказал Саймон.
— Хорошо? — Джирики снова улыбнулся, но глаза его напоминали холодные сияющие камни. — Люди растут, а Великие Черви… и другие… исчезают. Что ж, очевидно, таков путь вещей. — Он потянулся с сонной грацией только что разбуженной кошки. — Путь вещей, — повторил он. — Но я принес тебе чешуйку Великого Червя, чтобы кое-что показать. Хотел бы ты посмотреть, сын человеческий?
Саймон кивнул.
— Это путешествие было нелегким для тебя, — Джирики бросил взгляд назад, где вокруг огня и спящего Гримрика сгрудились их товарищи. Только Аннаи ответил на его взгляд, и между двумя ситхи промелькнуло бессловесное понимание. — Смотри, — через мгновение сказал принц.
Зеркальце, лежавшее в его ладони, словно горсть драгоценной воды, казалось, покрылось рябью. В темноте, которую оно заключало, медленно проступали зеленые точки, словно звезды, прорастающие в вечернем небе.
— Я покажу тебе настоящее лето, — мягко сказал Джирики. — Более настоящее, чем ты когда-либо знал.
Сияющие зеленые крапинки трепетали и соединялись, сверкающие изумрудные рыбки поднимались к поверхности тенистого пруда. Саймон чувствовал, что погружается в зеркало, хотя не двигался с места, на котором сидел. Зеленый превратился во множество самых разных зеленых — здесь было столько тонов и оттенков, сколько когда-либо существовало. Через мгновение круговерть зеленого превратилась в дивную путаницу деревьев, мостов и башен: это были город и лес, растущие среди травянистой равнины вместе, как одно целое — не лес, выросший на развалинах города, как в Да'ай Чикиза, а цветущая, живая смесь растений и полированного камня, мирта, нефрита и трав.
— Энки э-Шаосай, — прошептал Джирики. Трава на равнине с наслаждением сгибалась под напором ветра, алые и голубые знамена развевались на ветвящихся башнях, словно полевые цветы. — Последний и величайший город Лета.
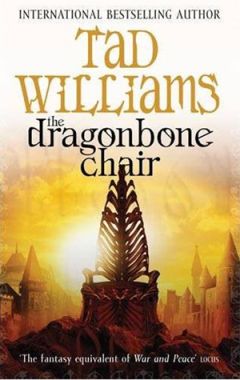
![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)