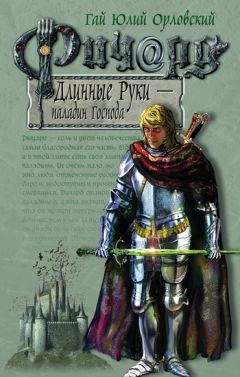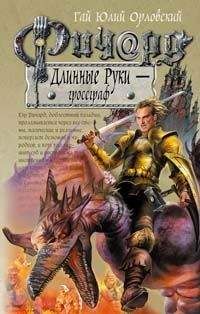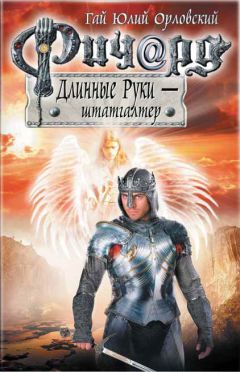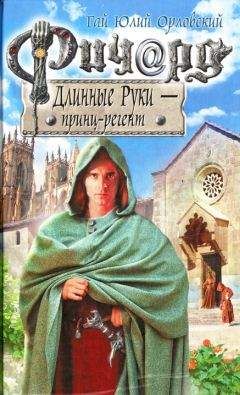Гендельсон все еще спит, настоящая свинья под дубом. За ночь отяжелел, обрюзг, морда перепачканная… Правда, у меня вряд ли лучше, но себя не вижу, а эта свинья – вот она. Даже пахнет от нее по-свински, не то обгадился от страха и усилий, не то у него пот такой вонючий. Потому никто нас и не тронул ночью, брезговали подойти близко.
Машинально пощупал амулет на шее, что в прошлый раз сослужил такую хорошую службу на дороге. Но здесь даже если достанет из-под земли целый клад, в лесу он ничего не стоит.
Постанывая от жалости к себе, я потащился в чащу, орешник видно отсюда, а там может оказаться и что-нибудь еще. Нет, ни фига больше не нашел, кроме каких-то ягод. Но я, дитя асфальта, знаю только черешню да клубнику, а все остальное для меня – «волчьи ягоды», которыми вроде бы травятся. Или кайф ловят, не помню.
Гендельсон уже сидел перед черным кругом выгоревшей земли, тупо шевелил прутиком угли. Пепел ссыпался, багровые бока углей слегка вспыхивают, словно внутри этих камней загораются крохотные лампочки. Я положил на землю горку орехов в огромном зеленом листе, размером со слоновье ухо, только еще мясистее, словно выдернул из-под жабы на болоте, а не сдернул со стебля лопуха.
Он поморщился:
– Это… что?
– Орехи, – объяснил я. – Что, вам подают на блюде только очищенными?.. Вот что, Гендельсон…
Он напыжился, ухитрился посмотреть на меня свысока, хотя сидел на камне.
– Сэр Гендельсон! – сказал он надменно. – Можно «ваша милость»… можно «ваше баронство»…
– Заткнись, – сказал я с бешенством.
Он отшатнулся, смотрел на меня выпученными глазами. Я ощутил, что меня трясет от неожиданно прорвавшейся злобы.
– Заткнись, – повторил я раздельно. – Заткнись, ничтожество!.. Или вставай и топай в Кернель сам!.. Я еще согласен тебя взять… тебя, ничтожество, если закроешь хлебало и забудешь, что ты – цаца, что у тебя есть привилегии передо мною!.. Понял, ничтожество?..
Он краснел, багровел, бледнел, синел, лицо то распухало, то спадало, как сдутый воздушный шар. Я уж надеялся, что его кондрашка или грудная жаба задавит, но он все сумел пережить, хотя хрен сколько километров нервов у него перегорело, потом выдавил сипло:
– Мы… выполняем… приказ короля. Потому я сейчас… ни слова… Но мы вернемся, сэр Ричард!
– Вернемся, – согласился я люто.
– Вернемся, – сказал он хриплым от ненависти голосом, – и тогда… тогда посчитаемся.
– Посчитаемся, – ответил я. – Охотно!.. Если вернемся, конечно. Если вернемся оба… А пока, жаба, запомни: у тебя нет привилегий!.. Ты не будешь мне отдавать никаких приказов!.. Я не могу проследить, что ты обо мне думаешь, но – клянусь Богом! – если только каркнешь что-то оскорбительное, я тебе зубы вышибу прямо сейчас. Вышибу с превеликим удовольствием.
Он молчал, смотрел исподлобья. Я заставил себя дышать глубже и чаще, что-то чересчур распустил вожжи своих чувств. Гендельсон только испепеляет меня взглядом, полным ненависти. А это, как твердят восточники, опаснее, чем если бы орал и бранился. Вот как я сейчас.
Я сделал еще пару выдохов, сказал уже как можно будничнее:
– Все, не будем к этому вопросу возвращаться. А орехи советую… пожрякать. Иначе силы не хватит, чтобы выбраться даже из леса.
Он смотрел на орехи набычившись, подозрительно. Долго молчал. Я раскалывал орехи камнями, не буду же рисковать содрать эмаль с зубов, доставал сочные блестящие зерна, ел с удовольствием. Наконец Гендельсон, к моему удивлению, сказал почти обычным голосом:
– С таким молотом… можно было бы оленя… или кабана. Даже птицу какую-нибудь.
Я пожал плечами.
– Не хотите орехов? Что ж, не извольте беспокоиться, ваша милость. Эти орехи я сам поем. В них калорий вдвое больше, чем в мясе… А вы можете вот это кушать… Вволю!
Я указал на россыпь желудей. Сам я с тем же энтузиазмом хрустел плотные коричневые панцири камнем, скорлупки разлетались, как осколки, ел с удовольствием, всегда любил орехи, а сейчас это так и вовсе деликатес.
Гендельсон скривился, но все же потянулся к орехам. Я сделал вид, что не вижу, как он роется, выбирая покрупнее, сам брал один за другим, и он заторопился, хватал чаще, раскалывал зубами, ел быстро, как прожорливая свинья, и весь как свинья – толстая, жирная, бесцеремонная, наглая.
Я встал первым, теперь это не только мое право, но и обязанность, указал в просвет между деревьями:
– В той стороне Кернель!.. Я не знаю, сколько до него. Я не знаю, может быть, в сотне шагов справа или слева за лесом прекрасный город, где смогли бы купить коней… да не простых, а с крыльями! Но мы пойдем прямо. Возражения есть?
Он отряхнул ладони, взгляд его был тяжелым и запоминающим. Медленно поднялся, скривился.
– Нет, – ответил он. – Мы должны дойти до Кернеля.
– По крайней мере, попробовать, – сказал я.
– Дойти, – сказал он. – И вернуться. Нам есть зачем… возвращаться.
– Да, – ответил я. Голос мой дрогнул, ибо перед глазами встало прекрасное лицо Лавинии. – Есть.
Деревья расступились и, покачиваясь, начали обходить нас справа и слева. Под ногами шла мелкая галька, потом двигались через соснячок, где сухие иглы покрыли землю на три пальца толщиной, затем посветлело от множества белокорых березок, напомнивших мне буренок, чуть позже березняк без перехода сменился густой дубравой.
Под ногами хрустели крупные желуди. Трижды натыкались на стада диких свиней, но только один раз свиньи разбежались, а два раза нам пришлось самим осторожно обойти по широкой дуге. Уж очень внимательно следили за нами огромные могучие кабаны, вепри. Клыки покрупнее, чем у медведей, а с какой скоростью они носятся, я уже знал. Глазом не успеешь моргнуть, а эта туша собьет с ног и вспорет от низа живота и до горла, как умелая хозяйка потрошит толстую рыбу.
Однажды наткнулись на небольшое оленье стадо в пятеро голов. Головной олень тревожно фыркнул, все сорвались с места, но я успел метнуть вдогонку молот, поймав в прицел взгляда молодого оленя, что убегал последним. Раздался короткий хрип, тут же оборвавшийся. Стадо как ветром сдуло. Мы подбежали оба, я вытащил нож, но Гендельсон распорядился с прежней властностью:
– Разжигайте костер!.. Только рыцари умеют правильно свежевать дичь.
Я стиснул челюсти, пальцы сжались в кулаки. Уже можно бы дать в зубы этому дураку, ибо он, хоть и не прямо, но выказал свое превосходство, свое высокое рождение, а у меня, мол, рождение только и годится, чтобы разжигать им костер…
Дыхание вырвалось из моей груди с шумом. Я разжал кулаки, еще раз вздохнул и отправился на сбор сушняка. Путешествие только начинается. Мы можем быть рядом с Кернелем, а можем быть и черт-те где. Ничего, в дороге все разрешится, все узлы развяжутся. У меня не зря чувство, что терпеть эту толстую жабу буду не очень долго.