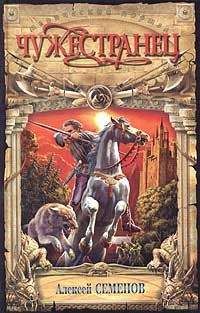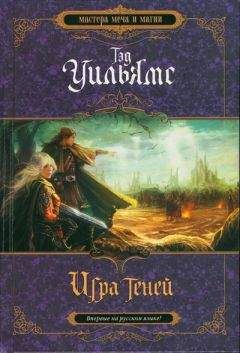— А банник как? Добрый? — спросил Мирко со знанием дела.
— Да, банник добрый попался. Да о нем не забывали. Видать, не худо ему жилось у колдуна. Только раз явились поутру мужики на озеро — зашли туда по случаю, на охоту отправились, — и видят: баня не топится, дверь — настежь, а сам колдун в траве на берегу лежит, голый весь, и не двигается.
— Помер?
— Нет, — усмехнулся Ахти. — Живой был, только без чувств. Ну, мужики его водой облили, ноги-руки растерли — ожил. А как в себя пришел, поведал, что, как обычно, истопил баню под вечер, попарился, вышел в воду окунуться-охладиться. А ночь лунная была, ясная, светло — что днем. Выходит он, значит, на берег и видит: навстречу ему из воды руки поднялись, потом волосы длинные, лицо показалось. Русалка, одним словом! Он так и обмер — время-то вовсе не русалочье, осень уж зачиналась, вода остылая. А она вышла на берег — красивая, глаз не отвести, кожа при луне блестит, серебрится даже, как чешуя. Вышла — и к нему. А он, даром что колдун, нет бы заклятие сотворить — бежать бросился. Да тут и грянулся без чувств.
— Занятно, — перебил Мирко. — Знаешь, Ахти, я бы не прочь был на месте того колдуна очутиться.
— Занятно, — согласился парень. — Но через три Дня умер колдун, а ведь крепкий еще был, и пятидесяти годов не прожил. И — не знаешь разве? — русалки не просто так объявляются: утопилась, значит, дева в озере этом когда-то. А раз так, нечистое там место. Вот с тех пор и забросили баню.
«Да уж, — мелькнула у Мирко мысль, — ну и село: одна — в колодец, другая — в озеро». Вслух же спросил:
— А сам говорил, купались там. Это как же?
— Купался. Известное дело, с ребятами друг дружку подзадорили да и пошли, и ночью даже. Ничего, правду сказать, страшного не видали, но в одиночку туда никто не наведывался. А уж по осени об этом и вовсе речи нет.
Мирко знал, как жгуче холодна водица по осени, в листопаде-месяце, и по весне, когда сойдет лед, доводилось окунуться. Знал, как жутко бывает плыть безликой ночью в новолуние, когда не видно ни верха, ни низа, будто в непроглядной пустоте висишь. Но, видно, плохо чтил он дедовскую веру — не мерещились ему ни русалки, ни духи лесные, тем паче не являлись. То есть они были, конечно, — как иначе? — но будто где-то в другом воздухе, другой воде, другом лесу, недоступном глазу и чувству человека, и являлись в мир только по крайней надобности. Приключившееся с ним в последние два дня еще раз напомнило, что лешие да водяные есть, и нет в том ничего удивительного. Но ум Мирко все равно всему искал обыкновенное, людское истолкование, и ничего нельзя было с этим поделать. Или дядя его так воспитал?
— Только у нас случай иной, — продолжал разговорившийся Ахти. — Нельзя, думаю, два дня, не очистившись, ходить.
— Нельзя. А далече ли озеро?
— До заката часок останется, как дойдем. Потому работать быстро придется.
— В бане, поди, все паутиной заросло за столько лет?
— Нет, — отвечал Ахти. — Деревня за баней ухаживает. Колдун пусть и помер, но банник-то живет там, негоже его сердить.
Мирко кивнул.
Они продолжили путь по лесу. Изредка встречались кусты можжевельника и бересклета, краснели кисти толокнянки, лиловел вереск да болтались по ветру метелки колоска и тимофеевки. Рядом с ними шли красавцы-кони. Тонконогого белого скакуна оседлал Мирко. За ним выступал вороной — коренастый, злой, но выносливый конек степняка. Ахти ехал на стройном вороном жеребце из-под белогорца и вел в поводу могучего гнедого, носившего воина в тяжелых доспехах. Остальные кони были не хуже и послушно шли следом за новыми хозяевами.
Мирко же нашел себе новый предмет для раздумий — смерть колдуна на озере. Он готов был принять, что причиной смерти стали русалочьи чары, но колдовство, по его понятиям, никак не могло явиться сюда, в четские леса, вот так, запросто. Какое дело было колдуну-хиитола до невесть когда утопившейся в озере девицы? Что было утопленнице до колдуна, почти старика? Русалки, насколько разумел Мирко, должны интересоваться молодыми, пригожими парнями. Выходит, колдун — хоть и был простецким своим мужиком, что не слишком обычно для колдуна, совершил в жизни что-то такое, от чего будто окошко открылось в невидимой стене, разделяющей, разводящей людей и нелюдей, обитающих пусть и на одном месте, а обособленно. Вот как раз в такое окошко и скользнула серебрящаяся в лунных лучах соблазнительница-русалка. И захлопнула окно только смерть колдуна!
Эта мысль ожгла Мирко тяжкой плетью. Это что ж получается? Значит, и он, Мирко, как-то, чем-то, может, и не ведая того, невзначай, распахнул свое окно! И как! — четырнадцать оружных на конях без труда в него проскакали. Но когда? Когда нашел бусину? Когда заглянул в нее? Когда не отдал Антеро? Или когда целовал в уста каменную богиню? Или когда подростком подглядывал за колдунами хиитола на холме? Или, может статься, когда еще в детстве услышал, как старый Веральден обронил то странное и темное слово — «Рота»?
Лишь минет летняя жара,
Я встану ото сна.
Лишь серебром зальет холмы
Охотничья луна,
Лишь только ветер унесет
На юг последний лист,
Пока не слышен за окном
Злой зимней бури свист,
Покуда зелена трава,
Хоть иней по утрам,
И ночь приходит на ночлег
К пастушеским кострам,
И шерсть овечья на плечах
Не заменяет плед, —
Кто понял нечто о холмах,
Отыщет здесь мой след.
На белый известняк камней
Коль сможешь ты взглянуть
Так, чтобы вспомнить в небесах
Молочный звездный путь,
Коль вереска лиловый плащ
Напомнит вдруг привет,
Которым красит горизонт
Закраинный рассвет,
Коль трещин прихотливых вязь
На каменных столбах
Навеет памяти слова
О давних временах,
И не страшит тебя ничуть
Тоскливый волчий вой, —
В холмах услышишь иногда
Далекий голос мой.
Когда не вспыхнет твой клинок,
Услышав слово «враг»,
Когда не сможет отогреть
И дать покой очаг,
Когда журчание ручья
И дикий мох камней,
Узорный папоротника лист
Окажутся милей,
Чем песня девичья, и смех,
И пряжа тонких рук,
Дыханья легкого тепло,
Шагов летящих звук,
Когда нет радости надеть
На палец ей кольцо, —
Придя в холмы, ты, может быть,
Узришь мое лицо.
Я старше кланов, и мечей,
И боевых знамен,
Я старше слов, хотя теперь
Моих не счесть имен,
Моим годам неведом счет,
И все ж я краше тех,
Кому лета и красота
Беспечный дарят смех,
И я светлей любви твоей,
Хотя и свет она,
И, как ни бело полотно,
Я чище полотна.
Меня увидев только раз,