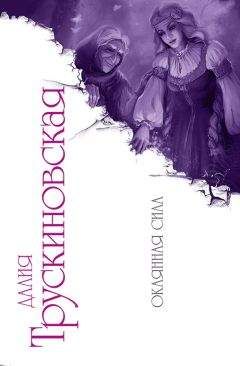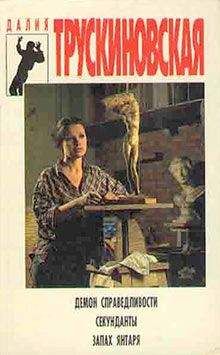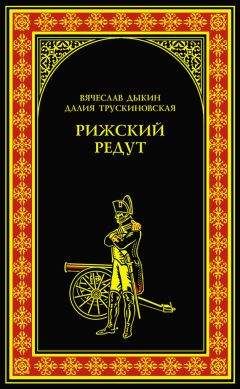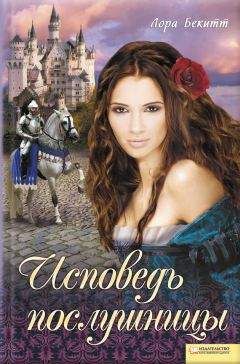Аленка закивала.
— Если ты, скажем, богородичный заговор на здоровье дитяти читаешь, начинаешь с того, как Богородица на престоле сидит или по дороге идет, то заканчивай его так — не я заговариваю, заговаривает Пресвятая Богородица своими устами, своими перстами, своим святым духом!
— …своими устами, своими перстами, своим святым духом… — зачарованно повторила Аленка.
— Или, скажем, лихорадку утишаешь. Ей приказать нужно… — Ворожея вдруг вся подобралась, как кошка у мышиной норы, заслышав шебуршанье, и негромко, но весомо произнесла: — Тут тебе не быть! Червоной крови не пить с порожденного, молитвенного, крещенного раба Божия! Во веки веков! Аминь!
Вдруг она усмехнулась Аленке.
— Вот то и будет замок. Или еще можно совсем по-простому. Скажи — ключ небо, а замок земля. Вот небо с землей твой заговор между собой и замкнут. Или еще — слово мое крепко, аки камень, аминь, аминь, аминь. Ну да ладно, с чего мне тебя уму-разуму учить? Что далее сотворила?
Аленка не сразу поняла, что речь зашла о ее неудавшемся заговоре.
— Крест скорее надела, домой побежала…
— И всё?
Аленка кивнула.
— Да явственно же сказано — возьму от двух гор земельки! — возмутилась Никитишна. — Не на перекресток нужно было выходить, а встать ну хоть меж двух холмиков. Земли две пясточки с них взять, смешать, воду на той земле три дня настаивать и той водой молодца напоить! Какая только дуреха тебя так скверно научила?
— У нее-то получалось! — обиженно пискнула Аленка.
— А у тебя вот не получилось. Тут еще и злость много значит. Когда наговариваешь на питье или на еду, злиться надобно…
За неимением еды Никитишна возложила руки на ступку и заговорила с тихой, от слова к слову растущей яростью:
— Выйду я на широку улицу, спущусь под круту гору, возьму от двух гор земельки. Как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной не сходился, не сдвигался! Чтоб он ее возненавидел, не походя, не подступя, разлилась бы его ненависть по всему сердцу, а у ней по телу, на рожество, не могла бы ему ни в чем угодить, опротивела бы ему своей красотой, омерзела бы ему всем телом, чтоб не могла она ему угодить ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, чтобы он — в покой, она — из покоя, он бы на улицу, она бы с улицы, так бы она ему казалась, как люта медведица!
На последних словах ворожея приподнялась над столом, раздвинув локти, сгорбившись, и дохнула Аленке в лицо — и почудилось той, что над ней и впрямь медведица нависла.
— Ох, спаси и сохрани!
— То-то, девка. Но один заговор на тех же рабов Божьих дважды не произносят. Тебе иное нужно.
— А сделаешь иное?
Никитишна посмотрела на девушку пронизывающе.
— Сделать могу. Да всё одно ничего у тебя, горькая ты моя, не выйдет. Зря время потратишь и травку изведешь. Есть у меня сильная травка, на великоденский мясоед брана, травка-прикрыш. Она иным разом свадьбу охраняет, а иным — брачную постель портит. Всё от слов зависит.
— Как это не выйдет? — возмутилась Аленка. — Ты мне только ее дай, я всё сделаю! И словам меня научи!
— Для кого стараешься-то? Для сестрицы, чай? — спросила ворожея.
— Для подруженьки, — отвечала несколько изумленная такой проницательностью Аленка.
— А что ж подруженька сама не придет?
— Стерегут ее.
— Вот я и толкую — одна ты не управишься, ничего у тебя не выйдет. Ну, наговорю я на травку-прикрыш, изготовлю подклад и засунешь ты его той разлучнице Анне под перину…
— Ну?..
— Так ведь мало этого! Вот послушай, девка. Подклад — это непременно, чтобы меж ними телесного дела не было. А тоска-то у того Петра по той Анне останется? Стало быть, нужно его от тоски отчитывать. Это, пожалуй, и мать, и бабка могут.
— Мать? — переспросила Аленка в ужасе. При одной мысли о Наталье Кирилловне ей нехорошо сделалось.
— Хорошо бы мать, это такие слова, что лучше помогают, когда родная кровь нашепчет. А потом — три, а то и четыре сильных приворота, чтобы этот Петр твою подруженьку опять полюбил. И смотреть, чтобы после того никто его испортить не пытался!
— А как смотреть-то? — спросила ошарашенная всеми этими словами Аленка.
Ворожея лишь вздохнула.
— Коли у твоей подруженьки родная мать жива, пусть бы она пришла. А тебе в это дело лучше не мешаться. Проку от тебя тут, девка, не будет, окромя вреда.
— Да я для Дунюшки всё сделаю! — взвилась Аленка.
— Ты много чего понаделаешь. Уж и не знаю, давать ли тебе подклад…
— Степанида Никитишна, матушка, век мы с Дуней за тебя Бога молить будем! В поминанье впишем! — горячо пообещала Аленка. — Только помоги!
— Помочь разве?..
Ворожея призадумалась.
Аленка смотрела на нее со страхом и надеждой.
— Ладно. Сейчас изготовлю подклад. Наговорю на травку-прикрыш, увяжем мы ее в лоскут, понесешь ты ее к дому, где та разлучница живет, и засунешь ей под перину. Хорошо бы еще перину подпороть и в самую глубь заложить, чтобы никогда не сыскали. Однако в чужом доме у тебя на то времени не хватит. И слова скажу, с какими подкладывать. Через три дня придешь — тогда подумаем, что тут еще сделать можно. Да только кажется мне, что не скоро я тебя теперь, девка, увижу… Вот кажется — и всё тут…
Степанида пристально поглядела на Аленку, засопела, покрутила носом — как если бы от девушки странный дух шел, и повернулась, стала шарить по стенке, где одни травы под другими висели. Вдруг обернулась: — Только гляди! Остерегайся! Поймают — долго ты мою ворожбу расхлебывать будешь! А коли меня назовешь…
Степанида Рязанка так уставилась на Аленку, что у той перед глазами всё поплыло и поехало.
— …под землей сыщу! Бесовскую пасть на тебя напущу!..
Ведунья оскалилась с шипом.
— А бесовскую пасть с тебя никто снимать не захочет — побоятся! И сожгут тебя, аки силу сатанинскую, в срубе!
Более Аленка ничего не слышала и не видела.
Очнулась она, стоя посреди дороги. Как сюда дошла, зачем здесь оказалась — не вспомнить. И при себе ничего нет… Ох, Дунюшкины чарочки!..
Аленка принялась охлопывать себя руками, как будто чарки с коробочкой могли под одежду заползти. И обнаружила, что ворот ее рубахи развязан, и сунут ей за пазуху какой-то колючий сверток. Она вытащила, отвернула край лоскута, понюхала — трава сохлая… Лучины в ней какие-то, с двух концов жженные, тряпочка скомканная, перышко… Спаси и сохрани!
Не сразу поняла Аленка, что это подклад для Анны Монсовой. Как вспомнила — сразу успокоилась. Чарочки, стало быть, у ворожеи остались. А теперь как быть? Неужто в самую Немецкую слободу бежать? Среди ночи?