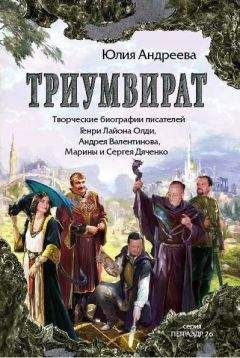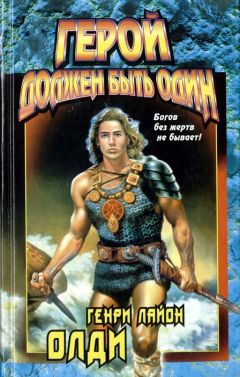— Обязан. Но отнюдь не обязан защищать обманщика-ворожея, который якшается с Нечистым!
— Может быть, святой отец, вам виднее. Только если погибель грозит не обманщику-ворожею, кому и так до могилы рукой подать, а невинной душе, которой дьявол домогается? Особенно если душа эта — сестра ваша, святой отец? Не сестра во Христе, а такая, какие у нас всех, грешных, водятся! Привратник-то ваш пустозвон, раззвонил по всей округе чище колокола: к аббату Яну сестра приехала!
— Марта?! — вскинулся Ян. — Что с ней?
— Пока ничего. Не считая, что слуги того, кого лишний раз поминать не стоит, за ней охотятся. И очень даже может статься, что сестра ваша скоро здесь окажется.
— Ты… — бледное лицо аббата начало наливаться краской не подобающего святому отцу гнева. — Ты и ее заманить сюда решил?!
— Решил — не решил, а чую, что не миновать ей мельницы старого Стаха Топора. Вот тут-то Петушиное Перо за ней и явится. Кому ж, как не святому отцу и вдобавок родному брату, ее от Нечистого оградить?
Аббат Ян долго молчал, и багровые пятна понемногу сходили с его лица.
— Тебе это дорого обойдется, старик, — произнес он наконец. — Адскими котлами стращать не стану, но и на этом свете прощения не жди.
— Не жду, — кивнул мельник. — И раньше не ждал, святой отец, и сейчас не стану. Только прежде чем надумаете сюда стражу да монахов гнать, чтоб на костер меня отправить, вспомните сначала, как сами-то в Казимеже[9] к блудным девкам шастали да кутили в мирском платье по кабакам. Помните? И я помню. Так что крепко подумайте, прежде чем карать меня, грешного. У меня и свидетели найдутся…
Аббат Ян не отвечал, потупившись.
— Сдается мне, мы поладили, святой отец. Вы делаете свое дело, угодное Господу, и если все кончится миром — едете отсюда вместе с сестрой подобру-поздорову. Никому от того зла не сотворится, а обо мне лучше забудьте — человек вы почти что святой (старик ехидно подмигнул), вам скоро епископский сан принимать, значит, ни к чему прошлое ворошить, грешки всякие наружу вытаскивать… Ну а если что не так выйдет — тогда и карать вам некого будет. А, может, и некому, — добавил мельник совсем тихо.
Неожиданно аббат перегнулся через стол и крепко ухватил за запястье растерявшегося на миг мельника. Старый Топор ощутил странный трепет, волной пробежавший по его изношенному телу, глаза сами собой стали моргать и слезиться, словно к самому носу поднесли резаную луковицу — и колдун Стах поспешил отдернуть руку, машинально бормоча заговор от порчи и сглаза. Он не понял, что сейчас произошло, но все же нутром почуял, что сидящий напротив него человек в коричневой дорожной сутане далеко не прост, а в том, что случилось, святостью и не пахло.
Впервые Стах подумал, что играет с огнем — да не с тем, который сам и разжигал.
— Вовремя ты стражу кликнул, дед, — аббат в упор глядел на старика, растягивая тонкие губы в гримасу, так же похожую на улыбку, как веревка походит на гадюку. — Теперь я не сомневаюсь: я действительно нужен тебе. Ты надеешься, что я смогу оградить свою сестру — и тебя самого! — от дьявола, если он явится за ней; а он явится, тут я тебе тоже верю. Но главного ты не сказал мне, а сам я не успел дотянуться… Зачем ты все это затеял? Чего хочешь ТЫ, и какова будет плата?! Говори!
— Это мое дело, святой отец, — приходя в себя, ответил мельник, так и не сообразив, о какой-такой страже говорил удивительный монах. — Ты будешь защищать свою сестру, и я помогу тебе в этом, чем сумею. А остальное — как любите говорить вы, служители церкви, — остальное в руках Господних.
Яносик из Шафляр, приемный сын покойного Самуила-бацы, пристально смотрел на старого Стаха из Гаркловских Топоров.
…Распрягавший лошадь брат Игнатий уже давно приметил большого, серого с сильной проседью пса, крутившегося у двери, за которой скрылись аббат с мельником. Потом пес совсем по-человечески припал ухом к двери и застыл в напряженной позе.
«Подслушивает! — оторопел квестарь, но подойти и шугануть зубастую тварюку все же побоялся. — Вот уж угораздило, спаси Господи и сохрани! Возле самого монастыря — и в такой оборот!»
В этот момент пес, видимо, услышав все, что хотел, повернулся и в упор посмотрел на брата Игнатия. Только тогда до квестаря наконец дошло, что никакой это не пес, а матерый седой волчина.
Зверь оскалился и исчез за углом.
Ехали молча, с непонятной опаской, стараясь держаться поближе друг к другу. Глухо стучали копыта по сумрачной глинистой дороге, на которую лишь в полдень, и то ненадолго, ложились веселые солнечные пятна; а сейчас — какой там полдень! — день клонился к вечеру, и хорошо было бы успеть добраться до корчмы Габершляга, прежде чем наступит полная темнота.
Лошади тоже что-то чуяли, шли тихо и настороженно, даже не фыркали, как обычно.
— Полпути проехали, — бросил через некоторое время хмурый Михал. — Даст Бог, ночевать будем под…
Закончить он не успел.
Стремительно и неотвратимо выметнулись из чащи по обеим сторонам дороги серые тени. Кинулись без воя, без рычания, молча, по-змеиному стелясь над самой землей, словно сам лес долго выжидал, примеривался — чтоб наверняка — и наконец решился, бросив верных серых пахолков[10] на незваных гостей и хлестнув стаю для острастки заранее припасенной плетью.
Мир качнулся, оскалив слюнявую пасть, вздыбив жесткую шерсть на загривке, дорога испуганно выгнулась, уходя вбок и вверх, истошное ржание на миг оглушило — и вот уже Марта лежит на земле, неловко подвернув придавленную конской тушей ногу, а совсем рядом с лицом женщины растекается темно-багровая, почти черная в сгущающихся сумерках лужа, и матерый зверь в упоении рвет горло агонизирующей лошади.
Позади сразу трое волков остервенело грызли что-то кричащее, дергающееся, плюющее багровым — гайдук Михала даже не успел схватиться за оружие; хриплое рычание сливалось с оглушительным треском кустов на правой обочине — каким-то шестым чувством Марта поняла, что это Джош сцепился в кустарнике с одним из лесных убийц; а сам воевода Райцеж возле старого вяза…
Оставив растерзанное конское горло, зверь всем телом повернулся к женщине, сухо щелкнули окровавленные клыки — Марта вскрикнула, отчаянным рывком высвободив хрустнувшую ногу, и бросилась в лес, напрямик, куда глаза глядят. Животный страх гнал ее вперед, заставляя бежать, не разбирая дороги, забыв о Михале и Молчальнике, не замечая дергающей боли в подвернутой ступне, чувствуя, что сердце прыгает уже не в груди, а где-то в горле, не в силах остановиться, выигрывая у смерти рваные мгновения страха, бешеного бега, тяжелого дыхания — мгновения жизни!