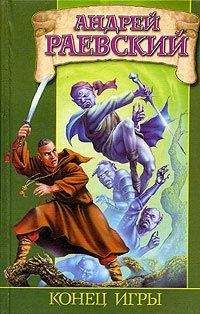— Ну вот, что за люди, — посетовал высокий, — только интересный разговор начнётся — так сразу ноги делают. Вечно одно и то же.
— А поесть мешают, — добавил коротышка
— Да успокойся ты! — крикнул он хозяйке, притаившейся за стойкой и нервно комкавшей в руках полотенце.
Золотая монета блеснула в воздухе и, пролетев через всю харчевню, угодила в узкий неровный разрез её платья. Та, прижав руки к груди, бросила полотенце и стрелой взлетела по лестнице вверх.
Высокий покачал головой.
— А вот интересно, умеют ли здесь делать хорошее вино из тёмного винограда? — спросил коротышка, внимательно разглядывая, поднесённый к глазам, тщательно обглоданный рыбий скелет.
— Лет двести назад умели. Сейчас — не знаю.
— Надо у хозяйки спросить. Да… А куда это все подевались?
Спина сидящего в недвижной позе гиганта, выглядывающая из-за каменной гряды, была закутана в хвостатый светло-терракотовый плащ, скроенный словно бы не из ткани, а из поблёскивающего кварцевыми искорками камня. Над скрытым плащом затылком высился несоразмерно большой бритый костистый череп. Рельефные складки золотисто-серой кожи обтягивали скульптурно вылепленный затылок не совсем обычной для человека формы. Поля огромной, низко надвинутой на лицо чёрной шляпы круглым ореолом обрамляли странную голову. Холодное безмолвное оцепенение излучала эта фигура.
Сфагам хотел обойти сидящего и увидеть его лицо, но тот, не двигаясь с места и не меняя позы, всякий раз оказывался к нему спиной. Лишь край оттопыренного уха появился за скалистым выступом затылочной кости. Зато за отступившей каменной грядой открылось серое полотно песка. На нём, как на листе благородного волокнистого шёлка, змеистым извилистым контуром нарисовались два серебристо-зеленоватых силуэта — мужчины и женщины. Не касаясь ногами земли, их обнажённые фигуры изгибались в плавном завораживающем танце, то проявляясь, то почти исчезая в холодном разреженном воздухе. А рядом, из той же холодной пустоты, возникла третья фигура. Это был старик в свободной чёрной накидке с длинным посохом в руке. Широкими растянуто-замедленными шагами он, так же паря над землёй, бежал в сторону танцующих, но расстояние между ними не уменьшалось. Лица старика не было видно, ветер трепал его седые космы и раздувал полы ветхого плаща. Нелегко было оторвать глаз от этой гипнотической сцены.
— Как тебе нравится моя новая старая игра? — раздался в голове Сфагама глуховатый, немного насмешливый голос исполина. — А-а! Я вижу, тебя мучают вопросы. Когда-то и меня мучили. Теперь я сам их мучаю.
Каждая фраза гиганта, беззвучно входя в сознание Сфагама, сопровождалась физически ощущаемым холодным сквозняком, всякий раз заставляющим внутренне сжиматься.
— Я — Великий Медитатор, — продолжал вещать глухой голос в голове Сфагама. — Я тот, кто прошёл путь осознания до конца. До самого, самого конца. Когда-то я природнялся к вещам, стремясь слиться с их природой, затем я стал природнять вещи к себе и растворять их природу в своей. А теперь, когда неприроднённых вещей не осталось, я повернулся к ним спиной и стал играть с их следами и образами. Я собираю незнакомое из кусочков знакомого. Я сводник знаков и принимающий роды смыслов, рождённых от их браков. Но люди ещё не скоро начнут понимать мои игры… Что? Ты тоже не всё понял? Это бывает… Сталкиваясь с любой новой вещью, люди стремятся природниться к ней или природнить её к себе — это не важно. Но когда сладостное единение распадается, а оно всегда распадается, как тут ни крути, — тогда человек даёт вещи имя, чтобы навсегда овладеть ею в своём уме и в своём сердце. Так люди накапливают слова, образы, знаки и прочие следы вещей. А теперь — самое интересное! Когда этих следов становится слишком много — самих вещей уже не видно. И вот тогда начнётся тоска и страх. Вот тогда, оборотившись назад, они увидят, что полки, на которые они бережно укладывали природнённые вещи, обвалились и рухнули, а все записи их имён в амбарных книгах безнадёжно перепутались. И повернувшись лицом к созданному их собственными руками хаосу, к хаосу, что во сто крат страшнее того, что обрушился на них, когда они поняли, что они не животные, люди кинутся исправлять имена и прорываться через них назад к вещам в надежде вернуть их подлинную сущность. А скажи мне, бывало ли хоть раз, чтобы кто-нибудь, куда-нибудь вернулся? Ты знаешь хоть один случай? Я — нет!… Они ещё долго будут время от времени исправлять имена, воевать со словами и тешить себя иллюзиями возвращения в мир истинных значений. Но на пороге хаоса ложных имён буду их ждать я. Я, Великий Медитатор, господин имён и образов, ничем не обязанный вещам. Я — строящий миры из хаоса следов и знаков. Я, обеспечивающий увлекательность движения и гарантирующий скуку при всякой остановке… Я вижу, ты всё уже понял.
Сфагам действительно всё понял. Не отрывая глаз от продолжающегося танца на берегу, он присел на невысокий, торчащий из песка голый камень. В раздумьях, переведя глаза вниз, он увидел среди колеблемых ветерком сухих травинок торчащую из земли разбитую голову древней статуи. На мраморном лице молодого мужчины лежала печать страдания. Неподалёку из песка выглядывал не то панцирь моллюска, не то полуистлевший остов лодки.
— А разве сами вещи не могут помнить свою истинную суть? — мысленно спросил Сфагам.
— Могут. Но мне-то что до этого? — снова подул холодный сквозняк беззвучных слов, — Хм… Ты подсказал мне интересный поворот игры. Зачерпнуть из памяти самих вещей — это любопытно!
— А как проникнуть в память вещей?
— Человеку это почти невозможно. Человек соприкасается с памятью вещей только тёмной стороной своего ума. Той его частью, что скрыта от света осознания. Человек видит дом и говорит о надёжности камней, из которых он сделан, о крыше, о стенах, об очаге и о прочих вещах, занимающих его ум. В конце концов, даже о красоте этого самого дома. Но сама божественная геометрия дома, указывающая на самые первые, истинные и безусловные значения — она находит отзвук лишь в самых тёмных глубинах духа, далеко за порогом слов и умственных размышлений. Не так-то легко туда пробраться! А всё, что налипло сверху — это те самые имена, которые выдают себя за сущности и которые люди всё время будут исправлять и переделывать в надежде навсегда пригвоздить вещь в какому-нибудь слову и, владея словом, распоряжаться вещью с её бесконечной природой. Кого обманывают? Пресыщенность? Притуплённость ощущений? Прибегут, никуда не денутся…!
Голос умолк. Молчал и Сфагам. Ему вспомнилась последняя поездка домой, когда после смерти матери городской суд решал вопрос о наследовании. Это было всего несколько лет назад, и память дотошно хранила все подробности — пустые, ненужные, не имеющие никакой ценности. Помнилось тревожное лицо племянника, который больше всего боялся, что Сфагам заявит свои права на дом, и его трусливые натужные улыбки, за которыми он пытался неловко скрыть свои переживания. Тогда Сфагам от всего отказался. Это был уже не ЕГО дом. Кажется, он тогда вообще не произнёс ни слова, только спросил, жив ли ещё их старый кот. А племянник сначала даже не поверил — всё ждал подвоха. Его было даже жалко… С тех пор он так и поселился в этом доме со своей семьёй. И дом стал жить совсем другой жизнью. И для кого-то эта жизнь была настоящей, родной, единственно подлинной…