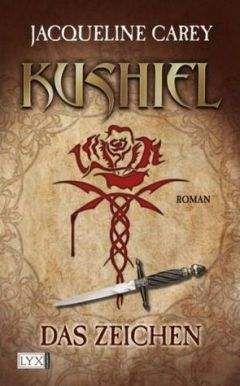– Спокойной ночи. – Как же он ненавидел эти бесполезные слова.
Фэрфакс ничего не ответила.
Чуть дальше по коридору из комнаты Уинтервейла вышел Кашкари – несмотря на уверения Тита, что состояние больного не ухудшится, пока тот будет спать, индиец решил оставаться рядом.
Тит направился к нему:
– Как он?
– Без изменений. Спит крепко, основные жизненные показатели в норме... насколько я могу об этом судить. – Кашкари на мгновение заколебался. – Ты абсолютно уверен, что не дал ему никаких лекарств, в которых мог оказаться пчелиный яд?
– Да, уверен, – ответил Тит, не особо заботясь, поверят ли ему. – Спокойной ночи.
* * *
С раскалывающейся головой Тит вновь направился в лабораторию после отбоя. Он мог единым махом перенестись на пять сотен верст и прежде никогда не перескакивал так часто, чтобы определить верхний предел собственного дневного диапазона. Однако сейчас, со всеми этими перемещениями в лабораторию за последние двадцать четыре часа, возможно, приблизился к данному пределу.
Он вернул все лекарства, которые брал в Бейкрест-хаус: панацею и прочее, от чего Уинтервейлу стало только хуже. Обычно аккуратист до мозга костей (времени и так вечно не хватает, чтобы тратить его, копаясь в беспорядке), этим вечером Тит не смог справиться с простейшим заданием и расставить лекарства по местам, лишь сунул склянки в сумку, а ее – в пустой ящик стола.
С панацеей, однако, нельзя было обращаться столь бесцеремонно. Этот особый пузырек Тит вернул на законное место – в сумку для чрезвычайных ситуаций, которую приготовил для Фэрфакс.
Он провел пальцами по ремешку – одному из мест, где оставил для нее тайные послания. Лучше бы, конечно, уничтожить те, что касаются не их миссии, а лишь чувств, которые оказалось проще излить письменно, чем высказать вслух. Однако Тит не хотел. Это было бы равносильно полному уничтожению присутствия Фэрфакс в его жизни.
Тело охватило изнеможение – он не просто чувствовал усталость, а потерял надежду.
Тит принял дозу средства, помогающего при скачках, чтобы уменьшить головную боль, сел за длинный рабочий стол в центре лаборатории и открыл дневник матери. Самый жестокий из его учителей, этот дневник все же оставался единственным достойным доверия проводником в постоянно изменяющемся мире.
«25 февраля 1021 державного года.
Ненавижу видения о смерти. Особенно ненавижу видения о смерти тех, кого я люблю».
Тит чуть не закрыл дневник. Ему не хотелось снова вспоминать подробности собственной гибели, подробности, которые делали ее реальной и неотвратимой.
Но он не мог не читать дальше.
«Или же в данном случае, о смерти, которая причинит страдания тому, кого я люблю. Но полагаю, от этого никуда не деться. Смерть приходит, когда пожелает, и выжившим всегда остается лишь горевать».
Тит выдохнул. Речь шла не о его гибели. Тогда о чьей же?
«Туман, плотная желтая стена, словно масло, капающее в грязь. Проходит несколько секунд, прежде чем мне удается разглядеть в тумане лицо. Я тут же его узнаю, оно принадлежит Ли, сыну дорогой Плейоны».
Уинтервейл.
«Это все еще молодой паренек, хотя и на несколько лет старше себя теперешнего. Он пристально смотрит из-за закрытого окна на густую шевелящуюся пелену тумана, которая словно давит на стекло в поисках возможность проникнуть внутрь.
Он в спальне. Возможно, своей собственной. Точно сказать не могу, поскольку она отделана в мрачных тонах, в незнакомом мне стиле.
В доме и снаружи не слышно ни звука. Мне начинает казаться, что это видение беззвучно, как вдруг мальчик громко вздыхает. Этот вздох слишком печальный, слишком тяжелый, он переполнен горем и тоской по чему-то утраченному. Эти эмоции чересчур сильны для столько молодого юноши, фактически ребенка, который ни в чем не должен нуждаться.
Тишину разрезает вопль. Ли отшатывается от окна, бежит к двери и кричит: «Мама, что с тобой?»
Ответом ему становится еще один леденящий кровь вопль.
Он выбегает в коридор – без сомнений, это прекрасный дом, но он кажется слишком ветхим и тесным для такого сказочно богатого человека, как барон Уинтервейл.
Теперь Ли в более просторной и вычурной спальне. Плейона лежит на груди мужа и сотрясается от безудержных рыданий.
– Мама? Папа? – Ли застывает в дверях, словно боится пошевелиться. – Мама? Что с папой?
Плейона дрожит – Плейона, которая всегда была такой сдержанной, такой уверенной в себе.
– Беги вниз и скажи миссис Найтвуд, чтобы отвела тебя к Розмари Альгамбра. Как доберешься, попроси мисс Альгамбра прийти и привести лучшего врача, которого она сможет отыскать среди изгнанников.
Ли не двигается с места.
– Иди! – кричит Плейона.
Он убегает, его быстрые шаги эхом отражаются в коридоре.
Плейона поворачивается к своему неподвижному мужу. Нежно берет его лицо в свои ладони и целует его в губы. Затем поднимает руку и заправляет волосы мужа за ухо. Я задыхаюсь в ужасе, разглядев едва различимую красную точку на его виске – красноречивое свидетельство заклинания казни».
Так значит, это все-таки правда. Причиной смерти барона Уинтервейла была названа острая сердечная недостаточность, но слухи о том, что он умер от заклинания казни по приказу Атлантиды, не прекращались долгие годы.
«Должно быть, он мертв уже несколько часов, судя по тому, как побледнела красная точка. К тому времени, как Ли вернется с Розмари Альгамбра и сведущим врачом, эта точка – как и ее сестра-близнец на другом виске – исчезнет окончательно и бесповоротно.
Взгляд Плейоны ожесточается. Она стискивает безжизненную руку мужа.
– Ангелы, возможно, проявят милосердие. Но я – нет. Я не забуду и не прощу.
Потом она снова падает на мужнину грудь и разражается слезами.
На этом месте мое видение оборвалось. Я пошла взглянуть на Тита, который играл в одиночестве, отслеживая маленький прутик на поверхности пруда.
Я поспешила к сыну и крепко его обняла. Он удивился, но позволил мне долго сжимать его в объятиях.
Я всегда поражалась, почему в моем видении о похоронах баронессы Соррен было так малолюдно. Допустим, баронесса вызывала скорее восхищение, чем любовь, но она внушала такое колоссальное уважение, что я всегда находила отсутствие людей на ее похоронах одновременно удручающим и жутковатым.