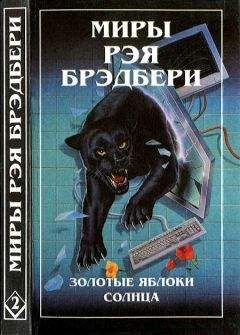Если на Селище птицей воробьем посмотреть, — в этот двор залететь, над тем пронестись, — праздник, большой, небывалый, в Селище затевался. Возле столов, сбитых на берегу, в огромных чанах еда варилась. А только и детвора зря тут толклась, напрасно запахами себя распаляла. Большой деревянной ложкой от чанов их Мамушка отгоняла. Воробью уж точно нечего было ждать. Дальше можно было лететь. А дальше, у самой воды, люди делали плот, молотками стучали, цветами его украшали — не было здесь еды. Дальше? Дальше был княжеский двор. Хорошо его знал воробей. Тут уж всегда можно было чем-нибудь поживиться. Но только не в праздник да еще такой большой, как сейчас.
Сейчас посреди двора Жар стоял, в три огромных корзины домашних божков укладывал. А люди несли ему их еще и еще. Потому что Заяц и Утка на рассвете опять все дома обежали, сказали: кто домашних божков не сдаст, не будет тому на празднике места, и в дружине молодого князя не будет, и в сердце молодого князя не будет. А кто половину домашних божков приносил — с надеждой: может, Жар и не заметит, — тем молодой князь снова велел за ними идти. «Всех, всех, — говорил, — мне в подарок на свадьбу несите!»
А птица воробей уже дальше летела. Увидела: Ягда из леса большую корзину несет, еловыми лапами всю накрытую. Потом увидела: Заяц с Уткой возле плетня сидят. Оба в рубахах нарядных. Заяц в свирельку изо всей силы дует. А следом тягуче поет:
— Пусть Велес вам пошлет много детей!
А Утка ему:
— Нет… Не те слова!
Как раз перед ними лепешка коровья лежала. Расхрабрилась птица, хоть лепешкой присела себя прикормить. А Заяц опять завыл:
— Пусть князь и княгиня, как брат и сестра!
А Утка на это:
— Они брат с сестрою и есть! Нет, Заяц, не летят к тебе те слова. Не нравишься, видно, ты им!
Вспыхнул Заяц, свирельку от себя отшвырнул и прямо ею в воробья угодил. Хорошо еще не до смерти зашиб. Взлетела голодная птица, а одно крыло толково расправить не может. Так неровно и полетела — поскорее прочь от праздника этого.
Мимо Зайца и Утки Ягда с большой корзиной прошла. Оглянулась, вздохнула:
— Вы Фефилы не видели?
И когда они головой покачали, дальше корзину поволокла. И Утке тогда еще грустней сделалось. Выхватил он из лепехи свирель, об колено ее сломал:
— И нечего песни тут петь! Дурным голосом! Вон воробей от них и тот заболел! — И руки в коровьем помете о рубаху нарядную вытер.
Всё теперь, не в чем было ему на свадьбу идти. Вот и пошел Утка, сам не зная куда.
Когда Жар увидел через окно большую корзину, он решил: это Ягда улиток ему в лесу собрала. И Ягдин голос про то же звонко сказал:
— Улитки, черви, личинки… Всё, что он любит. Уж вы постарайтесь!
Жар высунулся в окно, и Ягда ему улыбнулась. И Лада, корзину беря, сказала с широкой улыбкой:
— Уж мы постараемся! — и на задний двор корзину поволокла.
Жар был тронут. Все складывалось куда лучше, чем он ожидал. Только одна у Жара осталась забота: уговорить Родовита торжественно, при всех людях, на берегу, передать ему княжеский посох. Но Родовит впился в посох, как клещ. Три дня и три ночи кряду — с тех пор, как сгорели на капище идолы, — Родовит сидел дома, в темном углу. Есть не ел, спать не спал. Но за посох держался крепко.
И снова, оконный ставень прикрыв, Жар склонился над князем:
— Благословляю! Неужели это трудно сказать? Именем Велеса! Всего три слова. Велеса! Именем! Благословляю! А посох я сам у тебя заберу.
Родовит заскрипел зубами. Или это руки его еще крепче в посох впились?
— Велес бог сильных и дерзких! — выкрикнул Жар и полумрак трескучими искрами осветил.
— А Перун — он всем бог… Слабым тоже, — вдруг просипел Родовит.
— Послушным он бог! И жалким — как ты!
На это смог Родовит только лишь прохрипеть:
— Про… про… прок…. Про… кли… наю!
Это слово отобрало у него последние силы. Глаза у князя закрылись, онемевшие пальцы разжались. Жар выхватил из них посох. Осклабился:
— Ладно, отец. Ты пока отдыхай! — и снова ставень открыл.
Через княжеский двор катился рыжий клубок. Похоже, это была Фефила. И хоть зверушку эту, ни на что не похожую, Жар едва выносил, но Ягду она забавляла… Вот и сейчас Ягда неслась за ней со всех ног — красивая, легкая, быстрая, нарядная, как никогда, — его сестра и невеста. И растроганный ее счастьем, именно перед свадьбой так ярко, так искренне в ней полыхнувшим, Жар стоял, опирался на княжеский посох и с волнением смотрел Ягде вслед.
Священные камни со всех сторон заросли высокой травой. И чтобы найти изображение Симаргла, сначала Кащею пришлось раздвинуть ее там и тут, потом начать вырывать… Да что же случилось здесь с ними со всеми за эти семь лет? И с Ягдой? Неужели и с ней что-то тоже случилось? Прикоснувшись ладонью к Симарглу, — такому ненастоящему, застывшему, прирученному, а все-таки и из камня лучившему свет, — Кащей попросил его: дай мне принять ее всякой, любой, вот такой, какая придет… и даже — забывшей тебя! Он еще постоял на коленях, а когда поднялся, дорога уже пылила. По дороге бежала высокая, незнакомая, ладная девочка. Девушка… Ягда бежала к нему по дороге! Ржаная коса распустилась и волосы, как в рассказах Симаргла про Мокошь, клубились возле лица. И одежды — Кащею хотелось так думать! — от счастья тоже меняли цвет. Никогда он не видел Ягду в таком неистовом голубом.
— Кащей! — это был ее крик. И он был уже здесь. Он коснулся его лица. И лицо в ответ полыхнуло. А горло и губы ничего в ответ не смогли. А глаза увидели только васильковый и маковый цвет. Хотя Ягда была уже рядом.
— Вот! — сказала она и из-под рубахи вынула его амулет.
— Он хранил тебя? — хрипло спросил Кащей.
— Нет! — ответила Ягда. — Это я хранила его!
— Ты хочешь его вернуть?
Она промолчала, она что-то пыталась достать из небольшой холщовой котомки. Достала. Это был серебряный с чернью ларец.
— Вот! — открыла. — Пфу! Как топью-то от него несет! Ты сейчас этой мазью себя натрешь! Всего! И волосы тоже! А если останется, и одежду!
— Зачем?
— Для меня. Чтобы цел был и невредим. Для меня!
«Для тебя», — без голоса согласился Кащей. Он понял только сейчас: она не хочет вернуть ему амулет. И только сейчас нашел силы увидеть, что васильковое на ее лице — это сияющие глаза, а маковое — это волнение и радость.
Фефила, сидевшая в высокой траве неподалеку, хотела и не могла убежать. Стыдила себя, торопила, гнала. Но никуда не девалась. Ей было именно здесь, в пяти шагах от их ног, хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Даже лучше, чем лучше… Не было да и не могло у зверька быть для этого слов. Их ведь и у людей в такие минуты почти никогда не бывает.