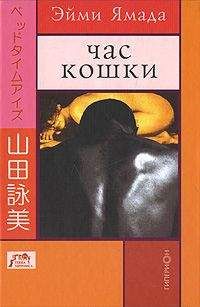Когда все телеги оказались на левом берегу, гребцы подошли к Глебу Твердыничу и сказали ему что-то неприветливое. Твердынич насупил брови и подступился к Афиногену.
– Говорит, устали людишки, томность их забирает, – сказал Трифон.
– Еще чего! – вспылил тут Афиноген и снова за пазуху полез – тигриную морду вытаскивать.
Глеб уловил его намерение прежде, чем оно осуществилось, и ухватил Афиногена за руку. Прижал эту руку к своей жесткой груди. Убедительно закивал. Мол, понял, в чем грекова боль и душевная его тревога.
Людишки, видать, тоже это сообразили, ибо развязали барки и жестами показали путникам, чтобы те садились.
Монголы спешились, бросив коней. Толмач сказал:
– Быки и кони не пропадут, а на левом берегу лучше возьмем новых.
Афиноген пожал плечами, но решил довериться толмачу.
Мир, если глядеть на него с воды, так разительно не похож на самого себя, увиденного с суши, что Феодул даже рот разинул. Так с разинутым ртом и на берег выбрался.
Афиноген пошел договариваться с русами насчет новых лошадей и быков. Оказалось, что с верховыми и тягловыми животными для путешественников все обстояло хорошо только на правом берегу. Едва лишь купцы оказались на левом, как сразу выяснилось, что переправщики в Батыевых льготах как сыр в масле катаются и никому ничего давать не обязаны. И на то существуют распоряжение и грамотка от самого Батыя.
Задержались в поселке на день. Афиноген с товарищами договаривался насчет животных и пропитания на будущую дорогу. Константин просто так бродил – повсюду любопытствовал.
Трифон вдруг нешутейно затосковал по родному дому и начал поговаривать о том, что хорошо бы ему найти попутчиков и каким-нибудь образом добраться до Киева. Даже толмача о дороге расспрашивать вздумал. Толмач улыбался загадочно, что почему-то усиливало сходство его лица с дыней, цокал языком, усмехался себе в ладонь, но прямо ничего не говорил. Не то дороги не знал, не то хотел Трифону отсоветовать.
Феодулу нравилось, как ведет дела Афиноген. Торговался грек везде и со всеми, однако не свирепо, в меру, не теряя ни в чести, ни в выгоде; действовал таким образом, чтобы угрозы чередовались с дарами и посулами, в полном согласии с законом гармонического равновесия.
Наконец за умеренную плату сторговал связку сушеного мяса, несколько крупных свежих рыбин, выловленных в Танаисе, десяток кругов ржаного хлеба и двух коз, которых предполагалось зарезать уже в пути, обеспечивая себя свежим мясом.
Взяли и лошадей, верховых и заводных, и быков. Все нашлось!
Монголы, завидев рыбу, немало дивились, ибо никто из них рыбу и вовсе за пищу не считал.
Прощаясь с Феодулом и Трифоном – а простоватый отрок глянулся чем-то старшине, – так сказал им Глеб Твердынич:
– Угодить пришлым людям, не навлечь на поселок лишних бед, да еще и себя в обиду не дать – такому не вдруг обучишься. Должно быть, с малолетства я для этого предназначался. Отец мой, хоть и именовался Твердынею, был на самом деле весьма слаб на выпивку. Другая же его слабость заключалась в том, что он чрезвычайно боялся позора. Хоть и была моя мать женщиной тихой, молчаливой и на людях показывалась неохотно, а все же глодала Твердыню жгучая ревность. Как-то раз возвращался он из кружала, изрядно нагрузившись хмельным. Жена, на беду, вышла его встречать, да не одна, а с обоими сыновьями – мною и братом моим Игорем. Отцу же с пьяных глаз помстилось, будто не двое мальчиков рядом с женой, но четверо. Известно ведь, что от хмельного взор двоится. Остановился мой отец, дрожа от страшной мысли: опозорила его жена! Он определенно помнил, что зачал с нею всего двух деток. Откуда же еще двое взялись? Только один ответ приходил в его горящую голову; те двое – нагулянные на стороне, незаконные. Поняв это, закричал мой отец, как олень перед битвой, и бросился с ножом на жениных ублюдышей…
– Убил? – вскрикнул впечатлительный Трифон. Глеб Твердынич кивнул, комкая бороду:
– Определенно. Двух лишних ножом зарезал…
– Как же ты спасся, Твердынич?
Старшина хмыкнул.
– Вот так и спасся. Отец-то пырнул ножом второго – которым я перед его взором двоился… С той поры, видать, и обучился я жить так, чтобы и нашим и вашим…
Феодулу и сам Глеб, и его история очень понравились. Сам Феодул, когда ему это требовалось для дела, умел раздваиваться, становясь то Раймоном, то Феодулом попеременно. Но на самом деле и Феодула, и Раймона он постоянно носил в себе.
Глебова же двойника много лет назад зарезал пьяный отец. Однако и ловок, должно быть, этот Глеб! Феодулу без Раймона пришлось бы куда как туго.
Ересиарх Несторий и погонщик ослов
(начало)
Еще десять или двенадцать дней минуло – ничего не менялось в жизни Феодула. Только бык, рядом с которым он шагал, в первые два дня казался новым, а на третий день как попривык Феодул к этому новому быку, то и бык сделался старым – или, точнее сказать, прежним и ничем в этом смысле больше не отличался ни от телег, ни от Афиногена с товарищами, ни от степи, по которой пролегала дорога.
И потому говорить обо всем этом – значит жевать вчерашнюю кашу. Иной раз – в горах, к примеру, или во время какого-нибудь стихийного бедствия – случается, чтобы неживое окружение было интереснее путника. Чаще же, напротив, путник интереснее природы. А в истории Феодула не в первый раз выпадает такой день, когда ни путники, ни природа никому уже не любопытны. И тогда настает самое время вспомнить о том, что на Феодуле, затерянном в степях между Танаисом и Итилью в лето благости Божьей 1252-е, свет клином не сошелся и что, если поискать, сыщется кто-нибудь поважнее этого Феодула.
Случается, торговая надобность заведет человека в чужие края; бывает, что пустится некто в странствия как бы в погоне за собственной душой. Нестория же загнали в пустыню египетскую недобрые люди и злая судьба. Итог вроде бы тот же самый, но путь, пройденный неволею, еще и годы спустя скрипел на зубах песком и отдавал под языком горечью.
Привезли его в Хибу два усталых преторианца в пыльных сапогах – привезли и бросили, оставив ссыльному немного денег, узелок с пожитками и письмо для местного губернатора. С этим письмом и предстал Несторий перед римскими властями.
Был он уже немолод. Мягкие волосы даже и теперь, когда их присыпало сединой, сохраняли отблеск былой рыжины. Большие, светлые, точно отцветшие глаза как-то нелепо выглядели на маленьком, собранном в морщинистый кулачок лице.
Губернатор только махнул рукою:
– Поселяйся, где хочешь; народ не мути – вот и будешь цел. Мне же до тебя дела нет, старик.
И вот поселился Несторий в кособокой хижине, где до него обитал какой-то другой горемыка. Взял оставшиеся от прежнего хозяина вещи – посуду, одеяло из верблюжьей шерсти, корзину с крышкой, что была подвешена к потолку и где обнаружился крохотный окаменевший хлебец; присовокупил к найденному имуществу свое – и зажил.