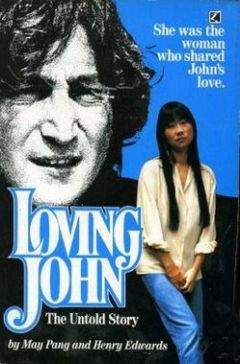Алан не любил, когда его спрашивали о самочувствии.
— Я тут поразмыслила о значимости легенд Артурианского цикла и мест, с ним связанных, — объявила Мэй ночному ветру, — и пришла к заключению: а ну их нафиг.
Алан с усилием рассмеялся — вышло более похоже на всхлип. Мэй готова была поспорить, что Ник не знал, где, а главное, на какой высоте в этом месяце устраивали Ярмарку.
Они прошли только половину подъема. Надо было предложить Алану повернуть назад и уехать, сказать, что дело того не стоит. Вот только он отказался бы, да к тому же… как Мэй ни было больно за Алана, для которого каждый шаг оборачивался пыткой, ее отчаянно, непреодолимо тянуло на Ярмарку.
Лестница огибала скалу, они лезли вверх, скрипя туфлями по грязным вытертым ступеням. Ветер взъерошил Мэй волосы и хлестал ими по лицу. От усталости она не видела ничего, кроме собственных еле шагающих ног, когда из темноты возникла дверь — скругленная, как в часовне, только грубая, некрашеная и призрачно-серая в свете луны.
Мэй уперлась в нее ладонью. На ощупь дерево было прохладным и гладким, как жемчужина, — видно, его долгие годы шлифовали морские ветры. Дверь от толчка распахнулась, и глазам путников предстал сказочный замок.
Казалось, кто-то посеял там звезды. Сам замок представлял собой руины: среди дикой травы и камней то тут, то там проглядывал островками плитчатый пол, зато на нем и на земле повсюду гнездились огоньки, оживляя землю, скалы, стены, свисая с щербатых бойниц.
Фонарей было так много, что они обволакивали сияющей завесой все вокруг, погружали развалины в призрачную дымку. Мэй, не чуя ног, брела сквозь Тинтагель по омытым светом камням.
Подобно фонарикам, замок усеивали прилавки. Они кучковались то тут, то там, словно грибы или птицы на ночлеге. Один киоск с ветряными колокольчиками приютился на полуразрушенной стене, так что посетителям приходилось карабкаться к нему по каменной осыпи. Еще несколько прилавков расположились в травянистых ложбинах между камнями и в углах замка. Какая-то женщина превратила в прилавок саму полуразрушенную стену, расположив яркие склянки среди торчащих, как зубы, камней.
И между этими осколками прошлого, озаренными магическим светом, сновал люд Ярмарки Гоблинов. Был там человек, который по соседству с ветряными колокольцами развешивал кинжалы, и они тоже позвякивали на ветру — грозная, прекрасная музыка. Рядом мальчишка лет двенадцати что-то помешивал в котле, так что над варевом повисло густое пахучее облако. Перед ним, на прилавке, ждала шеренга берестяных кубков.
Другой мальчуган, совсем кроха, забрел Мэй под ноги.
— Ого, — вырвалось у нее. Она ничего не имела против малышей, но лично ни с одним из них знакома не была и воспитанием детей не интересовалась.
Голубоглазое дитя с золотыми кудряшками (судя по прилипшим к губам травинкам, оно только что подкрепилось подножным кормом) вновь атаковало ее колено — видимо, рассчитывая напором устранить преграду, — и очень удивилось, получив легкий ответный толчок.
— Это Тоби, — произнес Алан у Мэй над ухом — она аж вздрогнула, почти забыв, что он шел сзади. — Младший в семействе Дэвисов. И жуткий спиногрыз.
Каждое слово было сказано таким умилительно-ласковым тоном, что Мэй невольно обернулась, а Тоби засмеялся. Алан смотрел не на нее, а на ребенка, и от улыбки его узкое лицо озарялось, как развалины Тинтагеля.
— Вечно сбежит из манежа, а сестра потом с ума сходи… Верно, чертенок?
Тоби просиял широкой, чуть сумасшедшей, как у всех детей, улыбкой и призывно поднял ручонки. Алан тут же подхватил его, и мальчик прильнул к нему — голова под головой, угнездившись на сгибе локтя.
— Ух! Вижу, ты любишь детей, — произнесла Мэй, которую приятно озадачила эта картина. Алан с ребенком на руках вызывал не меньшее восхищение, чем целая корзинка котят в чепчиках, да и Тоби вел себя смирно. Мэй поймала себя на мысли, что малыши — это не так уж плохо. Наверное, поэтому — догадалась она — женщины охотнее выходят за тех, кто ладит с детьми: они будут не прочь завести своих.
— М-м? — переспросил, разомлев, Алан. — Ну да, они ничего.
Через миг Тоби заизвивался. Алану пришлось припасть на одну ногу, чтобы ссадить ребенка и сесть рядом, держа его под мышкой. Тот потянулся к чему-то блестящему у Алана в рукаве. Алан вытащил нож и щелкнул пружиной — освободить лезвие. Потом зажал острие между пальцами — подальше от цепких ручонок — и стал вертеть рукояткой, которая тут же засверкала в магическом свете.
— Опа! — Алан втянул лезвие и улыбнулся, а малыш засмеялся в ответ — то ли нож его развеселил, то ли улыбка. — Ник тоже когда-то таким был, — добавил он и погладил мальчика по волосам.
Мэй присмотрелась к его детской мордашке — огни Ярмарки плясали на золотых кудрях, отчего те туманно сияли, словно нимб. Трудно было вообразить Ника похожим на этого ангелочка.
— Таким — в смысле, милашкой? — неуверенно спросила Мэй. Она подумала, что Алан обидится, но он только рассмеялся.
— Нет. Зато он был моим.
Тоби рывком устремился к ножу. Алан его удержал.
— Ну уж нет, у меня не порежешься, — известил он, спрятал нож в карман и развернул малыша лицом к себе. Тоби важно на него посмотрел, а через миг в пухлых пальчиках оказалась линза Алановых очков. — Кстати о родственниках: пора вернуть тебя семейству. Пошли, карапуз.
Он снова встал с малышом на руках, взявшись за край стены для опоры. Его глаза обратились к Мэй.
— Хочешь танцы посмотреть? — спросил он с озорной улыбочкой, которая предназначалась ей одной. — Я догоню.
— Ну-у… — протянула Мэй — слишком уж бестактно было бы признаться, что она готова бежать туда со всех ног.
Улыбка Алана стала издевательски-многозначительной.
— Повеселись там, — напутствовал он и заковылял прочь, на ходу дискутируя с Тоби по поводу принадлежности очков. Мэй улыбнулась ему вслед, после чего отправилась по величественным развалинам к той части замка, которую вымостили для туристов — брусчатка была гладкой и на современный лад ровной, как дорога из кирпича. Даже ее серебрил чудесный свет ярмарочных огней, так что она казалась дорожкой лунного света на воде. И вела она к волшебству.
Мэй знала, куда идти. Пение манило ее сквозь шум моря. Она пошла на зов музыки и очутилась там, где развалины замка почти надвое делила расщелина, промытая рекой — ее воды срывались с обрыва в море, где с пеной разбивались о прибрежные скалы.
Поперек расщелины был протянут мостик, который тоже сверкал от фонариков, как паутинка на рассвете. Казалось, он может лопнуть в любую секунду.