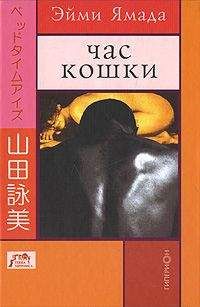К сожалению, созерцание относилось к области бесплодного и потому было Феодулом в конце концов оставлено за полной ненадобностью. Утолив голод черствой булкой, оставшейся из изначальных запасов, сделанных к путешествию еще в Акре, отправился Феодул искать, где ему преклонить голову, ибо справедливо рассудил, что утро вечера мудренее.
Быв в Акре братом Раймоном, не владел Феодул никаким имуществом, за исключением духовного; теперь же явственно настала для него такая пора, когда необходимо было обзавестись хоть чем-нибудь из презренных мирских благ.
Поразмыслив над всем увиденным и унюханным в соленом константинопольском воздухе, пришел Феодул к выводу, что единственным путем обогащения остается ему здесь нищенство – бесстыдное, возведенное в ранг искусства и в то же время не гнушающееся простого воровства.
В то же время, рассуждая сам с собою насчет здешних нищих, Феодул не без оснований пришел к выводу, что они воспротивятся попыткам пришлеца утвердиться в их почтенном ремесле, и потому для начала положил для себя Феодул приступить к поиску сотоварищей.
Но тут новая препона: таковых, чтобы прониклись к нему, Феодулу, доверием и в то же время тянулись бы самому Феодулу, никак не обнаруживалось. У всех имелся какой-нибудь существенный изъян; по большей же части они попросту гнали Феодула вон.
Это было нехорошо и совсем некстати.
Миновав кварталы Венецианский, Пизанский и Генуэзский, выбрался Феодул к проливу и неколикое время созерцал неспокойную воду и играющие на ней солнечные блики; затем, повернувшись к водам спиною, обрел наконец искомое: малый и весьма бедный храм округлой формы с крытым входом над пятью ступенями. По всему было заметно, что храм этот – веры греческой. Обшарпанные колонны, кое-где изрисованные осколком кирпича, обвалившиеся ступени, сквозь которые проросла трава, и множество иных примет без слов говорили о том, что приход отнюдь не процветает – не то по произволу нынешних властей, не то по скудости благочестия обитавших поблизости греков.
На самом крыльце навалена была груда пестрого рваного тряпья, из-под которого в беспорядке торчали клочья соломы, чьи-то чрезвычайно грязные босые ноги, беспокойно подергивающиеся во сне, одна растрепанная борода – черная, курчавая, с обильнейшей проседью, и два пушистых песьих хвоста.
Недолго раздумывая, Феодул улегся рядом на крыльцо и потихоньку подполз под одеяло, двигаясь бочком, наподобие короткого толстого червя. Один из псов высунул было морду и настороженно обнюхал чужака, но Феодул сунул ему кукиш – верное средство от кусачей собаки. Пес коснулся кукиша теплым шершавым носом, недоуменно посопел и снова пал головой на солому. Феодул к тому времени уже притек под одеяло и устроился там совершенно как свой.
Утром нищих согнал с крыльца ворчливый старенький поп. Привычно благословив их со всех четырех сторон света четырьмя отменными пинками, схизматик-грек исторг из-под тряпья стоны, проклятия и глухое песье ворчание, после чего направился к двери – отпирать и долго, нарочито шумно гремел ключом и засовами.
Между тем из-под лоскутьев показались мятые, заспанные лица. Трое греков были бородаты, всклокочены, загорелы, словно бы изваляны в корабельной смоле, и изрядно засорены соломенной трухой. Псы, крупные, тощие, с выразительными, очень голодными глазами, уселись неподалеку. Один тотчас принялся усиленно чесаться, стуча когтем по каменной кладке крыльца; второй же зевал, как можно шире разевая пасть и завивая язык колечком.
Феодула обнаружили в соломе, когда тот поднялся, кряхтя и держась за бок.
– Жестко тут у вас почивать, любезные мои христарадники, – как ни в чем не бывало проговорил Феодул и поднялся на ноги.
– Да кто ты таков? – осведомился один из нищих и засверкал на Феодула черными глазами. – Откуда взялся? Как посмел ночевать с нами, под нашим одеялом, на нашей соломе?
– Да много ли ущерба я вам нанес, поделившись с вами теплом тела моего и любовью души моей! – возмутился Феодул. – Зная, что, ложась спать, не сотворили вы никакой молитвы и не озаботились вручить сонный дух свой в руки Господа, а пустили его бродить без пригляда, там, где ему, неразумному, вздумается, сотворил я молитву на сон грядущий за всех вас, потрудившись вчетверо против обыкновенного.
И вскорости уже так вышло, что эти трое бродяг оказались кругом Феодулу обязаны; сам же он представлялся чуть ли не их наипервейшим благодетелем.
– Вижу я, – сказал наконец один из хмурых греков, – что ты – великий мастер морочить голову и дурить бедных людей почем зря, а потому, сдается, в нашем ремесле человек отнюдь не лишний. Скажи-ка, как тебя звать и для каких целей притек ты под наше одеяло.
– Звать меня Феодулом, – охотно поведал Феодул, – а жил я в Акре, братья мои, и одежда на мне – ордена миноритов веры латинской; однако ж роду я греческого и испытываю неодолимое влечение к городу Константинополю, почитая его за святейший из всех городов христианского мира.
Укрепившись в первоначальном мнении касательно Феодула – а именно, что подобного проходимца и жулика свет еще не видывал, – константинопольские нищие коротко сообщили о себе, что звать их Фома, Фока и Феофилакт.
Иные утверждают, что брат Раймон именно тогда и принял мгновенное решение назваться Феодулом – ради созвучия, – а прежде ни о чем таком и не помышлял. Однако это вовсе не так. Ибо Феодулом был сей неусердный и плутоватый брат минорит по самой сути своей; в миру же Господнем возможны и не такие причудливые рифмы, как встреча Фомы, Фоки, Феофилакта и Феодула.
Не долго все четверо наслаждались этой рифмой в праздности. Занимался день, а бездельника обыкновенно ждет куда больше трудов, нежели простого рабочего человека. Да и поп уже пару раз выглядывал из своей облезлой церковки и буравил нищих маленькими злющими глазками.
И потому, собрав пожитки, кликнули нищие псов и двинулись в Город – не подобно сеятелям, но подобно жнецам, без устали собирающим обильную жатву с человечьей доброты, доверчивости и глупости.
Мысли Феодула касательно всего того, что вызнал он у брата Андрея о монголах, были пока что самые неопределенные; одно знал точно – корень осуществлению всех его надежд здесь, в Великом Городе.
Будучи истинными детьми Города, Фока, Фома и Феофилакт немало гордились латинским разорением и не уставали поносить латинников с таким жаром, словно им-то и довелось больше всех пострадать от бесчинства захватчиков. Особливо огорчала их утрата сокровищ, которыми никогда не владели ни Фока, ни Фома, ни Феофилакт, ни предки их, ни пращуры.
Известно, что две трети земной роскоши сберегалось некогда в Царственном Граде, а одна треть была рассеяна по остальному христианскому миру. Со времени же Великого Разорения все смешалось и расточилось, так что теперь и не сыщешь – что и где сохраняется. Худыми и бесчестными путями ушли из Города многие богатства, в чем явили фряги немалое паскудство. Сгинули короны, венчавшие давно склоненные главы былых владык, и утварь золотая из царских покоев, и златотканые пурпуровые одеяния с вот такими жемчугами по подолу и вдоль всех швов, и камней драгоценных без счету. Взяли даже серебряные тазы, коими знатные византийки пользовались в банях.