– Зачем он тебе, Юрюнг? – примирительно спросил старейшина. – Добро б горожанин был, в жертву годный, мы б его Голодным глазам скормили, – а этот… Умный ты человек, Юрюнг, зачем тебе чужая дурость?!
Не ответив, Юрюнг Уолан поправил меховую шапку с костяной оторочкой и обратился к притихшим соплеменникам.
– Дети мои! – срывающимся голосом крикнул шаман. – Слушайте меня, слушайте одного из сыновей Бездны! Запрет на Безмозглом! Запрет на кровь его, запрет на мясо и кости его!…
Удивленное племя качнулось в сторону от непонимающе улыбавшегося дурака. Тот неловко поднял и опустил плечи, потер затылок и внимательно следил за воздевшим руки Юрюнгом.
– Раз в Лунный год воссядет Безмозглый на пегого отмеченного коня, и увидя его посадку, да рассмеется Бездна Голодных глаз, возрадовавшись доблести и силе ее сыновей из племени пуран! Чтобы узнать свет дня, нужна тьма полночи, чтобы понять жару – нужен холод. Чтобы видней стала гордость свободных наездников степей – нужен Безмозглый, падающий со старой клячи, нужен человек, не умеющий ничего!… Да будет так!
И шаман резко зашагал прочь, разводя людей перед собой рогулькой полированного сотней ладоней жезла.
Безмозглый пристально смотрел ему вслед, чуть сутулясь и поводя у груди сжатой в кулак рукой – и черты его постепенно теряли чужое выражение.
Будто невидимая вода смывала с него лицо Юрюнг Уолана, избранного помощника Верхнего шамана Бездны. Это видел лишь замерший Кан-ипа, но он предпочел помалкивать.
Почему-то табунщик чувствовал, что он зря подобрал в степи смешного Безмозглого.
Сон
…В объективе моргнул чей-то глаз, щелкнул замок, и дверь отворилась.
– Привет.
– Привет.
– Знакомьтесь, мужики. Это Стас.
Я с опаской погрузил кончики пальцев в аморфную Стасову ладонь.
– Заходите. Все уже в сборе.
Все, которые были в сборе, усиленно расслаблялись. И занимались этим, похоже, не первый час.
Интимный, бисквитно-кремовый фальцет колебал сизые струи «Честерфильда», на экране бесполое существо любило сопротивляющийся микрофон, и в такт его спазмам подрагивали на диване две полуодетые полудевицы. На ковре подле лежбища уютно устроился тощий парень, время от времени ищущий компромисс между шампанским и коньяком. Остальные прочно утонули в сумраке углов, и были вялы и неконкретны.
Я поискал бокал, свободный от окурков, потом поискал окурок, свободный от губной помады; позже, уяснив всю тщету своего наивного поведения, подсел к тощему, отпивавшему в данный момент из двух бутылок одновременно, тем самым решив мучительную проблему выбора – и попросил закурить.
– Рано еще, – как-то неопределенно отозвался собутыльник. – Не успел в дверь влезть, и сразу…
Я осторожно извинился, вызвав у дам приступ болезненного веселья, и отвалил в кресло. Весь комизм положения заключался в том, что мне лень было уходить. Это ж надо сначала встать, потом прощаться и одеваться, тащиться на остановку, ждать трамвай, ехать… Весь процесс вызывал уныние, ничуть не меньшее, чем уныние окружающего веселья.
Я откинулся на спинку кресла и полуприкрыл глаза. В голове по-прежнему гудела вчерашняя репетиция. Собственно, гудело лишь то, что было до и после сорванной «генералки», и уж поверьте, сорванной как положено, с воплями, помидорами и истерикой растерзанной Джульетты! – а саму репетицию, весь ее первый проклятый акт я и не помнил-то как следует… Это уже после в курилке помреж рассказывал, как в середине акта я полчаса по сцене за Тибальдом гонялся, а Ромео мне все руку выкручивал, пока я ему эфесом по морде не въехал и не заорал: «Чума на оба ваших дома!…»
Бедный Ян – это который Тибальд, по вечернему распределению – он же твердо знал, что Тибальду положено непременно заколоть подлеца Меркуцио с санкции всемирно известного классика Вильяма, под вступающие фанфары и изменение мизансцены с фронтальной на диагональную… Я так и вижу – идет Тибальд, рапирой в краске машет, а я сползаю у левого портала и посмертный монолог выдаю. Вот, значит, и выдал! Это Ян классика читал, и я читал, и режиссер сто раз читал – а Меркуцио мой не читал, и никак не собирался помирать от дешевого бретера. Хочешь заколоть – учись оружие за нужный конец брать, а не умеешь – иди кормилицу Джульеттину играй… Так что бегал Тибальд под мой импровизированный пятистопный ямб, а режиссер Брукнер только лысину в зале платком промокал – а после подполз, сволочь очкастая, и тихо так: «Слышь, Алик, я тебя во второй состав пока переброшу, ты отдохни, выспись, а там будем посмотреть…»
Я вспомнил легенду о мальчике из театра Кабуки, вошедшем в образ и голыми руками угробившем на сцене пятерых собратьев по ремеслу – игравших всяких там древнеяпонских негодяев. Куда его потом перевели? Ах да, в куродо… Куродо – это служитель сцены такой, свечи зажигает, грим поправляет, сам весь в черном балахоне – и зритель его в упор не замечает. Правильно, пойду в куродо, там мне и место. Уж на что стихами никогда не баловался, да и то так достали вчера…
Я вынул из кармана смятый тетрадный лист и разгладил его на колене. Потом пробежал глазами написанное.
От пьесы огрызочка куцего
Достаточно нам для печали,
Когда убивают Меркуцио –
То все еще только в начале.
Неведомы замыслы гения,
Ни взгляды, ни мысли, ни вкус его –
Как долго еще до трагедии,
Когда убивают Меркуцио.
Нам много на головы свалится,
Уйдем с потрясенными лицами…
А первая смерть забывается
И тихо стоит за кулисами.
Граненый бокал придавил руку к журнальному столику, на колено уселась любопытствующая девочка Алиса, подозрительно тяжелая и невинная; в дверях всплыл очкастый кот Базилио, машущий упаковкой зеленых пилюль – и я уже был готов тратить свои золотые в Стране Дураков.
Подраться, что ли, встряхнуться в свалке, и удрать…
– Встряхнуться хотите?
– Хочу.
– И что же вам мешает?…
– А ничего! – легкомысленно заявил я, не оборачиваясь к назойливому собеседнику. – Сейчас вот «колесо» хлопну, коньячком запью и с Алиской на диван завалимся. Чем не Эдем?!
Совсем рядом зависли узкие глаза с вертикальными кошачьими зрачками, мелькнул рукав грязно-пятнистой хламиды… Ну вот, как мне – так рано еще, а как обкуренному жрецу-любителю с несытым взглядом – так в самый раз. Везет мне на параноиков. Сейчас вот встану и…
– Не встанете. Это ж надо прощаться, тащиться на трамвай, ждать его опять же… А вам глобального подавай, никак не меньше. Классику там, весь мир – театр, стихи непризнанные… Хотите, допишу?
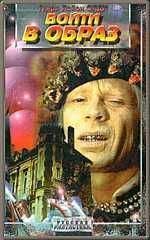
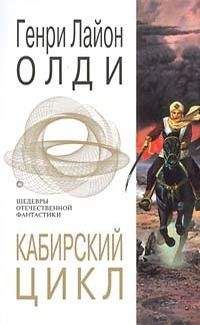

![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
