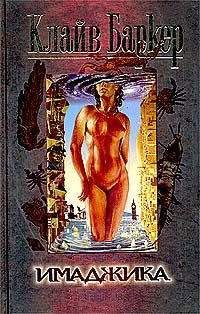Он не вполне понимал, с какой целью она послала его в Первый Доминион, но в таком смятенном состоянии он не был способен ни на что иное, кроме повиновения. Очевидно, у нее были на то свои причины, и теперь, после того, как дело всей его жизни было испорчено, ему оставалось только доверять ей. Не понимал он и того, что произошло с Примирением. Он был настолько далеко от своего тела, что готов был совсем распрощаться с ним, и вдруг, в следующее мгновение, он уже оказался в Комнате Медитации, вопя от боли, которую причиняла ему Юдит, а в дверях возник его брат со сверкающими ножами. Увидев смерть в его лице, он понял, почему мистиф пошел на страшную пытку, лишь бы сообщить ему, что он должен отыскать Сартори. В лице его брата скрывался Отец – в его чертах, в его выражении, в этой отчаянной решимости, – и не было никаких сомнений, что Он всегда был там, но Миляга так и не смог Его распознать. В лице Сартори он замечал лишь свою собственную красоту, искаженную злом, и всегда говорил себе о том, как прекрасен его Рай по сравнению с Адом его двойника. Какая насмешка над самим собой! Отец одурачил его, сделал его Своим подручным, Своим шутом, и он мог бы так никогда этого и не понять, если бы Юдит не вытащила его из Аны и не показала бы ему в живом зеркале лицо убийцы и разрушителя.
Но прозрение пришло слишком поздно, чтобы успеть исправить ошибку. Теперь он мог лишь надеяться на то, что его матери лучше известно, где может скрываться та призрачная надежда на спасение, что им осталась. Теперь он станет ее подручным и отправится в Первый Доминион по ее повелению.
* * *
Как она и просила его, он направился в Первый Доминион кружным путем, пролетая над местами, которые он посетил, проверяя Синод, и хотя ему страстно хотелось ненадолго задержаться и провести несколько минут с другими Маэстро, он знал, что медлить нельзя.
Однако он увидел их с высоты и убедился в том, что они сумели благополучно выбраться из Аны и вернуться в Доминионы, чтобы отпраздновать свой триумф. На холме Липпер Байак Тик Ро истошно завывал, задрав голову в ночное небо. Голос его звучал так громко, что перебудил всех обитателей Ванаэфа и всполошил стражу на башнях Паташоки. В Квеме Скопик выбирался из Ямы, где он сидел во время ритуала, и когда он поднял лицо к звездам, Миляга заметил, что в глазах его сияют слезы счастья. В Изорддеррексе Афанасий стоял на коленях на улице за воротами Эвретемекского Кеспарата и мыл руки в ручье, который подскакивал к его окровавленному лицу, словно собака, встретившая хозяина после долгой отлучки. А на границе Первого Доминиона, где дух Миляги замедлил свой полет, стоял Чика Джекин и ждал, когда растворится стена Просвета и за ней откроется Доминион Хапексамендиоса.
Почувствовав присутствие Миляги, он огляделся.
– Маэстро?
Из всех членов Синода больше всего Миляге хотелось поговорить именно с Джекином, но он не осмелился на это. Любой разговор рядом с Просветом мог быть подслушан Богом Первого Доминиона, а Миляга знал, что не сумеет перекинуться несколькими фразами с человеком, который был ему так предан, не попытавшись при этом предупредить его о надвигающейся опасности, и решил не подвергать себя этому искушению. Устремив свой дух вперед, он услышал, как Джекин вновь позвал его, но еще до того, как его крик прозвучал в третий раз, Миляга пересек Просвет и оказался в Первом Доминионе. В те слепые мгновения, когда он пролетал сквозь пустоту Просвета, в голове у него зазвучал голос его матери:
– ...и отправилась она в город злодейств и беззакония, где ни один дух не был добрым, и ни одно тело – целым...
Потом Просвет остался у него за спиной, и перед ним открылось зрелище Божьего Града.
Неудивительно, что его брат был архитектором. Вдохновения, которое создало этот город, хватило бы на миллион гениев, а для сотворившей его силы век, должно быть, равнялся продолжительности одного вздоха. Его величие простиралось от стены Просвета во всех направлениях, а улицы, шире Паташокского тракта, были такими прямыми, что уходили к самому горизонту. Дома же поднимались так высоко в небо, что оно едва проглядывало между крышами, но какие бы светила ни сияли в нем, город не нуждался в их блеске. Прожилки света пронизывали камни мостовой, а также кирпичи и плиты огромных зданий. Свет лился отовсюду, наводя на мысль, что во всем городе вряд ли найдется хотя бы одна тень.
Сначала он двигался медленно, надеясь на встречу с одним из обитателей, но миновав с полдюжины перекрестков и не обнаружив на улицах ни единой живой души, он стал набирать скорость, приостанавливаясь лишь тогда, когда на глаза ему попадались признаки жизни, притаившейся за непрерывной чередой фасадов. Он не был столь проворным, чтобы успеть заметить хотя бы одно лицо, и столь дерзким, чтобы войти без приглашения, но несколько раз он видел, как колышутся занавески, от которых, судя по всему, только что отскочил какой-нибудь любопытный горожанин. Но это был далеко не единственный признак присутствия в городе живых существ. Над коврами, висевшими на балюстрадах, до сих пор не рассеялись облака золотистой пыли, а с виноградных лоз срывались листья, в спешке потревоженные обратившимися в бегство сборщиками.
Похоже, с какой бы быстротой он ни двигался – а скорость его полета значительно превышала скорость любого автомобиля, – ему все равно не удалось бы обогнать слух о своем приближении, в мгновение ока разгонявший всех жителей по домам. Они ничего не оставляли за собой. Ни собаки, ни ребенка, ни обрывка бумаги, ни рисунка на мостовой. Это были идеальные граждане, вся жизнь которых проходила за задернутыми занавесками и запертыми дверьми.
Безлюдность этого метрополиса, явно созданного для того, чтобы изобиловать жизнью, могла бы произвести угнетающее впечатление, если бы не сами здания, которые были построены из материалов такой разнообразной фактуры и цвета и излучали такое живительное сияние, что казалось, будто они и есть настоящие городские обитатели. Строители полностью отказались от серого и коричневого и, раздобыв шифер, камень, брусчатку и черепицу всех мыслимых тонов и оттенков, смешали их цвета с отвагой, на которую не решился бы ни один из архитекторов Пятого Доминиона. Одно за другим открывались зрелища торжествующих красок: лиловые и янтарные фасады, колоннады ослепительного пурпура, площади, выложенные охристым и синим, а посреди этого буйства то и дело попадались невыносимо яркие пятна алого и не менее совершенного белого. Бережливее всего строители пользовались черным – пятно в кладке кирпичей, квадратик на крытой черепицей крыше, прожилка в булыжнике.
Но как выяснилось, даже такой красотой можно пресытиться, и после того, как мимо промелькнули тысячи подобных улиц, Миляга почувствовал, что его тошнит от этого изобилия и обрадовался, когда на одной из них сверкнула молния, которой удалось хотя бы на мгновение выбелить цвет окружающих фасадов. В поисках ее источника он изменил направление полета и опустился на площади, в центре которой стояла одинокая фигура. Это был Нуллианак.