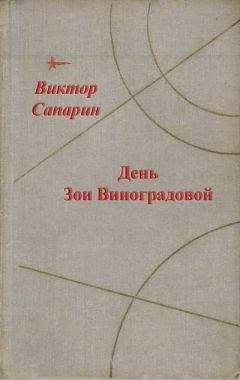9
Унтах кан Орвен, сын народа Свартальве, чародей и убийца, сидел под дубом и удил рыбу. Похоже, дела у него шли так себе.
— Ожидал? Меня? Странно, — я зашёл под тень, но остановился поодаль от колдуна-рыболова.
— Странно? — усмехнулся Унтах. — Отчего же? Напротив, вполне ожидаемо. Не надо скромничать — я, мол, пивовар, человек маленький… Поверь, маленький человек не осмелился бы одним из первых поставить серебро на кон в нашем поединке, не думал бы о величии гибели мира, не вспомнил бы друзей прежде себя, не пожелал бы мне возмездия за убийства… И не остался бы собой, заглянув мне в душу.
…Свеча, быстрый бег пера в тонких пальцах, тени в серых глазах, и — одинокая слезинка, равная жемчужине…
Остался ли я собой?
Не уверен…
— Я, наверное, многих перепугал, там, в корчме, — говорил меж тем Унтах, — но должен сказать, что вообще-то я не такой. Я, знаешь ли, человек добрый. Никто иной не отправился бы сюда.
— Ого. Могу себе представить ваших злых людей.
— О, не надо, — засмеялся Унтах, — сойдёшь с ума, достойный пивовар.
— А ты подозрительно много обо мне знаешь! Кажется, я не говорил тебе своего имени! Да и ремесло моё не написано у меня на лбу.
— У того, кто живёт во тьме, невероятно чуткие уши.
Я пожал плечами и присел рядом с ним. Мы пожали руки.
— Ведомо мне, — сказал тогда Унтах, — что в твоей голове ворошится рой вопросов, и ты полагаешь, что у меня есть на них ответы.
— Если не на все, то хоть на некоторые.
— Прекрасно…
Он поднял с травы желудь, повертел в руках, полюбовался и сунул в карман лиловой рубахи. Откинул голову и закрыл глаза.
— Прекрасно, — повторил он. — Ты живешь на прекрасной земле, Снорри. Продай-ка мне свою усадьбу!
Он проверял меня. Этот проклятый чужак проверял меня. Что же, мне нечего скрывать от тебя, убийца из дальних стран! Суёшь руки в огонь?
Не жалуйся потом, что печёт!
— Поверь, Унтах кан Орвен, у тебя нет столько денег. Я никогда и никому не продам своей земли. Тут я родился, тут сказал первое слово, тут баюкала меня мать… Есть у тебя мать, а, чужеземец? О, вижу, — есть. Хорошо. Продай мне свою мать, а? Тут, в Грененхофе, жили мои предки, жили тут сотни лет, отец мой, дед мой, прадед мой. Пировали за длинными столами, ссорились и мирились, любили, ненавидели, совещались, пели древние песни… И вот, представь, Унтах, я умру и приду к пращурам, и они спросят меня: что ты сделал с нашей землёй? Что я им скажу? Там лежат их кости. Продай мне кости своих предков! Я не могу продать тебе Грененхоф. Это мой одаль. Это ближе, чем рука или нога. Нет, не продам. Легче мне вырвать сердце из груди. Понимаешь?
Он расхохотался.
— Клянусь честью, достойные слова! — говорил он, катаясь от смеха, а я не знал, гневаться ли на него или смеяться вместе с ним.
А потом он покачал головой и молвил:
— Я у многих норингов спрашивал, не продадут ли усадьбу. Знаешь ли, у каждого нашлась цена. Даже у тех, кто возводит свой род к самому Нори Большому Башмаку. И только ты — только ты готов был убить меня за один лишь этот вопрос! Ты видишь, сколь прекрасна эта земля?
Я недоверчиво оглянулся. Если в этом крылся какой-то намек — я его не понял.
— Конечно, это прекрасная земля. Но ведь каждый аист хвалит своё болото. Другие, я думаю, просто не посмели с тобой открыто ссориться.
— Болото? — он словно не услышал. — Значит, не видишь. Увидишь только тогда, когда лишишься, как оно всегда бывает.
— От чего это я должен… хм… лишиться? — спросил я в полном недоумении.
— А как же иначе? Уж не останешься ли ты в родном городе, когда прочие разбегутся?
— Разбегутся? Ты начинаешь меня забавлять, Унтах кан Орвен. И когда же случится это ужасное событие?
— Думаю, завтра. Корд'аэн О'Флиннах привезёт страшную весть. Волк вырвался, Снорри, Пёс перегрыз путы, и близок час гибели.
— Не по нраву мне твои иносказания. Я не знаток кённингов. Какой ты добрый, если шутя говоришь о таких жутких вещах!
— Все мы смертны, — пожал плечами Унтах. — Но те, кто боятся смерти, и те, кто её не боятся, встречают её по-разному.
— Лучше быть живым, чем мёртвым, — возразил я.
— Если ты жив, то да. Но ведь и ты не боишься гибели и конца мира, не так ли? И вовсе не от бесстрашия, а от незнания.
— Будь ты проклят. Что толку с тобой говорить, коли через слово загадка! Что там за страшную весть везёт Корд?
— Всё очень просто. С отрогов северных гор в долину идут несколько тысяч цвергов. Скоро будут здесь.
Несколько мгновений я тупо моргал. Птицы метались у меня в голове, оглушительно хлопая крыльями. А он улыбался. Просто улыбался.
— Это очень дурная шутка, — сказал я наконец.
— Для шутки — да, нехорошо. Но вот беда — это никакая не шутка, господин мой Снорри. И я хотел бы умереть, только чтобы это и вправду оказалось просто дурной шуткой…
Я посмотрел ему в глаза.
Конечно, этого делать не стоило.
Горькая усталая улыбка пронзила сердце. И я остро, чётко понял: он не лжёт.
— Ну, господин пивовар? — спросил меж тем Унтах. — А теперь продашь мне свой дом?
Я криво ухмыльнулся.
— Слушай, может, тебе врезать? Кем ты меня считаешь? Э?
— Безумцем, Снорри, — отвечал тот, — рыжим безумцем.
— А чтоб тебя, — произнес я почти по слогам.
И — странное дело! — тревога исчезла, стало легко и прекрасно, и я понял: этого ждали поколения моих предков…
* * *
— Не стану спрашивать, откуда ты это узнал, — сказал я, — и не стану спрашивать, как это случилось… Спрошу, что же делать мне?
— А что ты можешь? Поднять тревогу, собрать людей, рассказать страшную весть? Не смеши. Никто тебе не поверит.
Да, пожалуй. Только поколотят, что, мол, выдумываю и людей от работы отвлекаю…
— Ну так ты скажи! — попросил я.
— Если бы мне поверили — сказал бы уже давно. Однако моё слово будет не дороже твоего. Нет, они поверят только друиду. Но, сдается мне, дела складываются таким образом, что день или два — разницы не много.
— Так что же… это конец?
Унтах холодно рассмеялся.
— Всё-таки боишься, пивовар… Я не знаю, что тебе ответить. Гибель мира предрешена. Только грохоту будет меньше, чем сказано в писаниях. То, что произошло здесь, лишь малая доля того, что происходит в мире. Ты, конечно, можешь пошутить, что, мол, каждое поколение гордо полагает себя последним, избранным для участия в великой битве. А она всё никак не наступает. Беда в том, что, кажется, и не наступит. У нашего народа есть старое пророчество о днях, когда тень накроет мир. Там сказано, что сперва люди забудут имена и слова, потом умолкнут песни и зазвенит медь, потом на земле погаснут огни. И тогда тень накроет землю и небо.